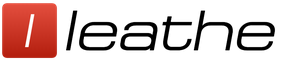Последнее поколение советских. PRO разницу поколений
"Я отношусь к поколению тех людей, которые родились ещё в Советском Союзе. Но чьё детство и первые воспоминания относятся уже к постсоветскому периоду.
Взрослея, мы обнаруживали, что это наше постсоветское детство проходит на обломках какой-то ушедшей цивилизации.
Это проявлялось и в материальном мире – огромные незавершённые стройки, на которых мы любили играть, корпуса закрытых заводов, манящие всю окружную детвору, непонятная затёртая символика на зданиях.

В мире нематериальном, в мире культуры, реликты ушедшей эпохи проявлялись не менее сильно. На детских полках компанию Д’Артаньяну и Питеру Бладу составлял Павка Корчагин. Поначалу он казался представителем столь же чужого и далёкого мира, как и французский мушкетер, и британский пират. Но действительность, утверждаемая Корчагиным, получала подтверждение в других книгах и оказывалась совсем недавней, нашей. Следы этой ушедшей эпохи обнаруживались повсеместно. «Поскреби русского – найдёшь татарина»? Не уверен. Но выяснялось, что если поскрести российское, то обязательно обнаружится советское.
Постсоветская Россия отказалась от собственного опыта развития ради вхождения в западную цивилизацию. Но эта цивилизационная оболочка была грубо натянута на наше историческое основание. Не получив творческой поддержки масс, вступая в противоречия с чем-то коренным и неотменяемым, там и здесь она не выдерживала и рвалась. Через эти прорехи проступало уцелевшее ядро павшей цивилизации. И мы изучали СССР, как археологи изучают древние цивилизации.



Впрочем, нельзя сказать, что советскую эпоху постсоветским детям оставили для самостоятельного изучения. Напротив, много было охотников рассказать про «ужасы советизма» тем, кто с ними не мог столкнуться в силу раннего возраста. Нам говорили об ужасах уравниловки и коммунального быта – как будто сейчас жилищный вопрос решён. О «серости» советских людей, скудном ассортименте одежды – куда как живописнее люди в одинаковых спортивных костюмах, и, вообще, не одежда красит человека. Рассказывали кошмарные биографии деятелей революции (правда даже через всю грязь, выливаемую на того же Дзержинского, выступал образ сильного человека, реально посвятившего свою жизнь борьбе за дело, которое считал правым).

А главное мы видели, что действительность постсоветская тотально уступает действительности советской. И в материальном мире – многочисленные торговые палатки не могли заменить великие стройки прошлого и освоение космоса. И, главное, в мире нематериальном. Мы видели уровень постсоветской культуры: книги и фильмы, которые родила эта действительность. И мы сравнивали это с культурой советской, про которую нам говорили, что она душилась цензурой, а многие творцы подвергались гонениям. Нам хотелось петь песни и читать стихи. «Человечеству хочется песен. / Мир без песен неинтересен». Нам хотелось осмысленной, полноценной жизни, не сводимой к животному существованию.

Постсоветская действительность, предлагающая огромный ассортимент для потребления, не могла предложить ничего из этого смыслового меню. Но мы чувствовали что, что-то осмысленное и волевое было в ушедшей советской действительности. Поэтому мы не слишком верили тем, кто рассказывал про «ужасы советизма».


Сейчас те же, кто рассказывал нам о кошмарной жизни в СССР, говорят, что современная Российская Федерация движется в сторону Советского Союза и уже находится в конце этого пути. Как нам смешно и горько это слышать! Мы видим, сколь велика разница между социалистической действительностью Советского Союза и криминально-капиталистической действительностью Российской Федерацией.

Но мы понимаем, зачем нам говорят об ужасах путинизма те, кто раньше рассказывал об ужасах сталинизма. Говорящие, сознательно или нет, работают на тех, кто хочет расправиться с постсоветской действительностью так же, как до этого расправились с советской. Только номер этот не пройдёт. Вы учили нас ненависти. Ненависти к своей стране, истории, предкам. Но научили только недоверию. Мне кажется, что это недоверие – единственное решительное преимущество Российской Федерации.


Те, кто выросли в постсоветской России, отличаются от наивного позднесоветского общества. Вам удалось обмануть наших родителей в годы перестройки. Но мы вам не верим и будем делать всё, чтобы во второй раз ваша затея провалилась. Мы будем исправлять больное, несовершенно российское государство на нечто благое и справедливое, нацеленное на развитие. Надеюсь, что это будет обновлённый Советский Союз и ваших возгласов о России, «скатывающейся к СССР», наконец-то появится действительное основание.

Эх, время, советское время…
Как вспомнишь - и в сердце тепло.
И чешешь задумчиво темя:
Куда ж это время ушло?
Нас утро встречало прохладой,
Вставала со славой страна,
Чего ж нам ещё было надо,
Какого, простите, рожна?
На рубль можно было напиться,
Проехать в метро за пятак,
А в небе сияли зарницы,
Мигал коммунизма маяк…
И были мы все гуманисты,
И злоба была нам чужда,
И даже кинематографисты
Любили друг друга тогда…
И женщины граждан рожали,
И Ленин им путь озарял,
Потом этих граждан сажали,
Сажали и тех, кто сажал.
И были мы центром Вселенной,
И строили мы на века.
С трибуны махали нам члены…
Такого родного ЦК!
Капуста, картошка и сало,
Любовь, Комсомол и Весна!
Чего ж нам не хватало?
Какая пропала страна!
Мы шило сменили на мыло,
Тюрьму променяв на бардак.
Зачем нам чужая текила?
У нас был прекрасный Коньяк!"

"Я отношусь к поколению тех людей, которые родились ещё в Советском Союзе. Но чьё детство и первые воспоминания относятся уже к постсоветскому периоду.
Взрослея, мы обнаруживали, что это наше постсоветское детство проходит на обломках какой-то ушедшей цивилизации.
В мире нематериальном, в мире культуры, реликты ушедшей эпохи проявлялись не менее сильно. На детских полках компанию Д’Артаньяну и Питеру Бладу составлял Павка Корчагин. Поначалу он казался представителем столь же чужого и далёкого мира, как и французский мушкетер, и британский пират. Но действительность, утверждаемая Корчагиным, получала подтверждение в других книгах и оказывалась совсем недавней, нашей. Следы этой ушедшей эпохи обнаруживались повсеместно. «Поскреби русского – найдёшь татарина»? Не уверен. Но выяснялось, что если поскрести российское, то обязательно обнаружится советское.



Впрочем, нельзя сказать, что советскую эпоху постсоветским детям оставили для самостоятельного изучения. Напротив, много было охотников рассказать про «ужасы советизма» тем, кто с ними не мог столкнуться в силу раннего возраста. Нам говорили об ужасах уравниловки и коммунального быта – как будто сейчас жилищный вопрос решён. О «серости» советских людей, скудном ассортименте одежды – куда как живописнее люди в одинаковых спортивных костюмах, и, вообще, не одежда красит человека. Рассказывали кошмарные биографии деятелей революции (правда даже через всю грязь, выливаемую на того же Дзержинского, выступал образ сильного человека, реально посвятившего свою жизнь борьбе за дело, которое считал правым).

А главное мы видели, что действительность постсоветская тотально уступает действительности советской. И в материальном мире – многочисленные торговые палатки не могли заменить великие стройки прошлого и освоение космоса. И, главное, в мире нематериальном. Мы видели уровень постсоветской культуры: книги и фильмы, которые родила эта действительность. И мы сравнивали это с культурой советской, про которую нам говорили, что она душилась цензурой, а многие творцы подвергались гонениям. Нам хотелось петь песни и читать стихи. «Человечеству хочется песен. / Мир без песен неинтересен». Нам хотелось осмысленной, полноценной жизни, не сводимой к животному существованию.

Постсоветская действительность, предлагающая огромный ассортимент для потребления, не могла предложить ничего из этого смыслового меню. Но мы чувствовали что, что-то осмысленное и волевое было в ушедшей советской действительности. Поэтому мы не слишком верили тем, кто рассказывал про «ужасы советизма».


Сейчас те же, кто рассказывал нам о кошмарной жизни в СССР, говорят, что современная Российская Федерация движется в сторону Советского Союза и уже находится в конце этого пути. Как нам смешно и горько это слышать! Мы видим, сколь велика разница между социалистической действительностью Советского Союза и криминально-капиталистической действительностью Российской Федерацией.

Но мы понимаем, зачем нам говорят об ужасах путинизма те, кто раньше рассказывал об ужасах сталинизма. Говорящие, сознательно или нет, работают на тех, кто хочет расправиться с постсоветской действительностью так же, как до этого расправились с советской. Только номер этот не пройдёт. Вы учили нас ненависти. Ненависти к своей стране, истории, предкам. Но научили только недоверию. Мне кажется, что это недоверие – единственное решительное преимущество Российской Федерации.

Эх, время, советское время…
Как вспомнишь — и в сердце тепло.
И чешешь задумчиво темя:
Куда ж это время ушло?
Нас утро встречало прохладой,
Вставала со славой страна,
Чего ж нам ещё было надо,
Какого, простите, рожна?
На рубль можно было напиться,
Проехать в метро за пятак,
А в небе сияли зарницы,
Мигал коммунизма маяк…
И были мы все гуманисты,
И злоба была нам чужда,
И даже кинематографисты
Любили друг друга тогда…
И женщины граждан рожали,
И Ленин им путь озарял,
Потом этих граждан сажали,
Сажали и тех, кто сажал.
И были мы центром Вселенной,
И строили мы на века.
С трибуны махали нам члены…
Такого родного ЦК!
Капуста, картошка и сало,
Любовь, Комсомол и Весна!
Чего ж нам не хватало?
Какая пропала страна!
Мы шило сменили на мыло,
Тюрьму променяв на бардак.
Зачем нам чужая текила?
У нас был прекрасный Коньяк!"
Премия Просветитель
Zimin Foundation
Для людей, живущих в СССР, его распад был, с одной стороны, закономерным, с другой стороны - стал полной неожиданностью. Книга Алексея Юрчака - попытка проанализировать парадокс, связанный с распадом Советского союза.
***
«...Никому не приходило в голову, что в этой стране вообще что- то может измениться. Об этом ни взрослые, ни дети не думали. Была абсолютная уверенность, что так мы будем жить вечно».
Так говорил известный музыкант и поэт Андрей Макаревич в телевизионном интервью 1994 года. Позже, в своих мемуарах Макаревич писал, что в со-ветские годы ему, как и миллионам советских граждан, казалось, что он живет в вечном государстве. Лишь где-то году в 1987-м, когда реформы перестройки уже шли некоторое время, у него зародилось первое сомнение в вечности «советской системы». В первые постсоветские годы многие бывшие советские граждане вспоминали свое недавнее ощущение доперестроечной жизни схожим образом. Тогда советская система казалась им вечной и неизменной, а быстрый ее обвал оказался для большинства неожиданностью. Вместе с тем многие вспоминали и другое примечательное ощущение тех лет: несмотря на полную неожиданность обвала системы, они, странным образом, оказались к этому событию готовы. В смешанных ощущениях тех лет проявился удивительный парадокс советской системы: хотя в советский период ее скорый конец представить было практически невозможно, когда это событие все же произошло, оно довольно быстро стало восприниматься как нечто вполне естественное и даже неизбежное.
Поначалу мало кто ожидал, что политика гласности, провозглашенная в начале 1986 года, приведет к каким-то радикальным переменам. Кампания за повышение гласности поначалу воспринималась так же, как бесчисленное множество предыдущих инициатив государства - кампаний, которые мало что меняли, приходили и уходили, пока жизнь продолжала течь своим обычным чередом. Однако довольно скоро, в течение года, у многих советских людей начало появляться ощущение того, что в стране происходит нечто беспрецедентное и ранее невообразимое.
Вспоминая те годы, многие говорят о «переломе сознания» и «сильнейшем шоке», который они в какой-то момент испытали, об ощущениях воодушевления и даже восторга, которые пришли на смену этому шоку, и о ранее необычном желании принимать участие в происходящем.
Тоня М., школьная учительница из Ленинграда, 1966 года рождения, запомнила тот момент, когда в 1987 году она вдруг окончательно осознала, что вокруг происходит «что-то нереальное, чего раньше было себе не представить». Она описывает этот момент так: «Я ехала в метро, как обычно читала журнал “Юность” и вдруг испытала сильнейший шок. Я прекрасно помню этот момент... Я читала только что опубликованный роман льва Разгона “непридуманное”. Раньше было просто не представить, что когда-нибудь напечатают что-то даже отдаленно напоминающее этот роман. После этой публикации поток прорвало». Студентка ленинградского университета Инна, 1958 года рождения, тоже хорошо запомнила момент, который она называет «первым откровением». Он произошел на рубеже 1986-1987 годов: «для меня перестройка началась с публикации в “Огоньке” стихов Гумилева». Инна, в отличие от большинства советских читателей, читала стихи Гумилева и раньше, в рукописных копиях. Однако она никогда не могла представить, что эти стихи появятся в официальных изданиях. Для нее откровением стали не сами стихи, а факт их публикации в советской печати и положительное обсуждение поэзии Гумилева вообще.
После этого поток новых, прежде немыслимых публикаций стал нарастать в геометрической прогресии. Возникла и приобрела популярность новая практика чтения всего подряд. Многие начали обсуждать прочитанное с друзьями и знакомыми. Чтение новых публикаций и публикаций того, что раньше не могло быть опубликовано, превратилось во всенародную одержимость. Между 1986 и 1990 годами тиражи большинства газет и журналов постоянно росли с рекордной скоростью. Первыми выросли тиражи ежедневных газет, особенно во время XIX партийной конференции 1986 года. Самым крупным и быстро растущим был тираж еженедельника «Аргументы и факты» - он вырос с 1 млн экземпляров в 1986 году до 33,4 млн в 1990-м. Но и другие издания отставали не намного. Тираж еженедельника «Огонек» вырос с 1,5 млн в 1985 году до 3,5 млн в 1988-м. Выросли и тиражи «толстых» ежемесячных журналов: тираж «Дружбы народов» вырос с 119 тыс. в 1985 году до более 1 млн в 1990-м, тираж «нового мира» вырос с 425 тыс. в 1985 году до 1,5 млн в начале 1989 года и вновь подскочил до 2,5 млн к концу лета 1989 года (когда журнал начал печатать «архипе- лаг ГУлаГ» солженицына, ранее недоступный широкому советскому читателю). В киосках пресса раскупалась с такой быстротой, что, несмотря на растущие тиражи, многие издания купить стало практически невозможно. В письмах в редакцию «Огонька» читатели жаловались, что им приходится занимать очередь в киоски «Союзпечати» с 5 часов утра - за два часа до их открытия, - чтобы иметь возможность преобрести свежий номер журнала.
Как и большинство людей вокруг, Тоня М. старалась читать как можно больше новых публикаций. Она договорилась с подругой Катей, что каждая из них будет подписываться на разные толстые журналы, «чтобы можно было ими обмениваться и больше читать. Тогда многие так делали. Я целый год провела за непрерывным чтением новых публикаций». Стремительные перемены опьяняли. Тоня, всегда ощущавшая себя советским человеком и не отождествлявшая себя с диссидентами, неожиданно для себя поддалась новому критическому настрою, испытывая восторг оттого, что столько людей вокруг чувствовало то же самое.
«Все это было так внезапно и неожиданно», - вспоминает она, «и полностью меня захватило». Она читала «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, «Жизнь и судьбу» Василия Гроссмана, отрывки из книг Солженицына, книги Владимира Войновича. У Гроссмана, вспоминает Тоня, «я впервые наткнулась на мысль о том, что коммунизм может являться формой фашизма. Мне такое никогда в голову не приходило. Он не говорил об этом открыто, а просто сравнивал пытки, применявшиеся в обеих системах. Я помню, как я читала эту книгу, лежа на диване в своей комнате и остро ощущая, что вокруг меня происходит революция. Это было потрясающе. У меня произошел полный перелом сознания. Я делилась своими впечатлениями с дядей Славой. Его больше всего радовало то, что стало можно критиковать коммунистов».
В результате чтения журналов, просмотра телепередач и постоянного обсуждения прочитанного и увиденного, чем занимались, казалось, все вокруг, в общественном языке появились новые темы, сравнения, метафоры и идеи, приведшие в конце концов к глубокому изменению доминирующего дискурса и сознания. В результате к концу 1980-х - началу 1990-х годов возникло ощущение того, что советское государство, так долго казавшееся вечным, может быть не так уж и вечно. Итальянский социолог Витторио Страда, подолгу живший в советском союзе до начала перестройки и во время ее, вспоминает, что в те годы у советских людей возникло ощущение ускорившейся истории. По его словам, «никто, или почти никто, не мог себе представить, что крах советского режима будет таким близким и скорым, как это произошло. Только с перестройкой... пришло понимание, что это начало конца. однако сроки этого конца и то, как он наступил, оказались ошеломляющими».
Многочисленные воспоминания о перестроечных годах указывают на уже упомянутый парадоксальный факт. Большинство советских людей до начала перестройки не просто не ожидало обвала советской системы, но и не могло его себе представить. Но уже к концу перестройки - то есть за довольно короткий срок - кризис системы стал восприниматься многими людьми как нечто закономерное и даже неизбежное. Вдруг оказалось, что, как это ни парадоксально, советские люди были в принципе всегда готовы к распаду советской системы, но долгое время не отдавали себе в этом отчета. Советская система вдруг предстала в парадоксальном свете - она была одновременно могучей и хрупкой, полной надежд и безрадостной, вечной и готовой вот-вот обвалиться.
Ощущение этой внутренней парадоксальности советской системы, возникшее в последние годы перестройки, заставляет нас поставить ряд вопросов. Насколько эта кажущаяся парадоксальность советской системы была неотъемлемой частью ее природы? В чем заключались корни этой парадоксальности? Каким образом функционировала система знаний в советском контексте? Как знания и информация производились, кодировались, распространялись, интерпретировались? Можно ли выявить какие-то несоответствия, сдвиги, разрывы внутри системы - на уровне ее дискурса, идеологии, смыслов, практик, социальных отношений, структуры времени и пространства, организации повседневности и так далее, - которые привели к возникновению этого парадокса, к ощущению системы как вечной, при ее одновременной внутренней хрупкости? Ответы на эти вопросы, возможно, помогут нам решить главную задачу этого исследования, заключающуюся не в том, чтобы определить причины развала советской системы, а в том, чтобы найти внутренние парадоксы и несоответствия на уровне функционирования системы, благодаря которым она, с одной стороны, была действительно мощной и, вполне естественно, могла восприниматься как вечная, а с другой - была хрупкой и могла вдруг сложиться как карточный домик. Иными словами, объектом нашего исследования являются не причины, по которым советская система обвалилась, а те принципы ее функционирования, которые сделали ее обвал одновременно возможным и неожиданным.
Cуществует множество исследований «причин» обвала CCCР. они говорят об экономическом кризисе, демографической катастрофе, политических репрессиях, диссидентском движении, многонациональном характере страны, харизматических личностях Горбачева или Рейгана и так далее. Нам кажется, в большинстве из этих исследований допускается одна общая неточность - в них происходит подмена понятий, в результате которой факторы, сделавшие обвал советской системы лишь возможным, интерпретируются как его причины. Однако, для того чтобы разобраться в этом глобальном событии, нельзя забывать, что оно было неожиданым. Ощущение вечности советской системы и неожиданности ее конца неверно рассматривать как заблуждение обделенных информацией или задавленных идеологией людей. Ведь и те, кто начал реформы, и те, кто им противостоял, и те, кто был равнодушен и к первым и ко вторым, одинаково не ожидали такого быстрого конца системы. Напротив, ощущение вечности и неожиданности было реальной и неотъемлемой частью самой системы, элементом ее внутренней парадоксальной логики.
Обвал советской системы не был неизбежен - по крайней мере, неизбежным не было ни то, как он произошел, ни то, когда он произошел. Лишь при определенном «случайном» стечении обстоятельств - то есть стечении обстоятельств, которое участниками этих событий не воспринималось как определяющее, - это событие смогло произойти. Но оно могло и не произойти или могло произойти намного позже и совсем иначе. Для того, чтобы понять это событие, важно понять не столько его причину, сколько именно эту случайность. Никлас Луман дал важное определение случайности: «случайным является все то, что не является неизбежным и не является невозможным».
Обвал советской системы высветил ее с такой стороны, с которой она никогда и никому не была видна ранее. Поэтому это событие может служить своеобразной «линзой», сквозь которую можно разглядеть скрытую ранее природу советской системы. В данной книге предлагается именно такой анализ - обвал СССР служит здесь отправной точкой для ретроспективного, генеалогического анализа системы. Главный период, на котором мы сфокусируемся, - это примерно тридцать лет советской истории с конца сталинского периода до начала перестройки (начало 1950-х - середина 1980-х), когда советская система воспринималась большинством советских граждан и большинством зарубежных наблюдателей как система мощная и незыблемая. Мы назвали этот период поздним социализмом.
Используя подробный этнографический и исторический материал, мы уделим особое внимание тому, как советские люди взаимодействовали с идеологическими дискурсами и ритуалами, как осуществлялось на практике их членство во всевозможных организациях и сообществах, что собой представляли языки (идеологические, официальные, неидеологические, повседневные, частные), на которых они общались и при помощи которых высказывались в различных контекстах, какими смыслами они наделяли и как интерпретировали эти языки, высказывания и формы общения и, наконец, какие типы взаимоотношений, практик, интересов, сообществ, этических норм и способов существования - подчас никем не запланированных - возникали в этих контекстах.
Перед тем как продолжить, надо сделать оговорку по поводу того, что мы будем понимать под термином «советская система» или просто «система». Этот термин, как и любой термин, имеет некоторые проблемы, и мы будем его использовать определенным образом и лишь время от времени, ради простоты и ясности изложения. Под «системой» мы понимаем конфигурацию социально-культурных, политических, экономических, юридических, идеологических, официальных, неофициальных, публичных, личных и других видов отношений, институтов, идентификаций и смыслов, из которых слагается пространство жизни граждан.
В таком понимании «система» не эквивалентна «государству», поскольку она включает в себя элементы, институты, отношения и смыслы, которые выходят за рамки государства и подчас ему не видны, не понятны и не подконтрольны. Не эквивалентна она и понятиям «общество» или «культура», как они традиционно используются в социальных науках и обыденной речи, поскольку к «системе» относятся способы существования и виды занятий, которые выходят за пределы этих понятий. Система используется здесь как раз для того, чтобы уйти от понятий «культура», «общество» или «менталитет» как неких естественных данностей, которые якобы всегда существуют и относительно изолированы от истории и политических отношений.
Используется термин «система» и для того, чтобы уйти от таких традиционных противопоставлений, как «государство-общество», которые часто встречаются в социальных и политических науках и широко распро- странены при анализе советского прошлого. Система также имеет здесь иной смысл, чем тот, которым он наделялся, например, в диссидентском дискурсе, где понятие «система» являлось эквивалентом подавляющего аппарата государства. В нашем случае система - это не нечто закрытое, логично организованное или неизменное. Напротив, «советская система» постоянно менялась и испытывала внутренние сдвиги; она вклю- чала в себя не только строгие принципы, нормы и правила и не только заявленные идеологические установки и ценности, но и множество внутренних противоречий этим нормам, правилам, установкам и ценностям. Она была полна внутренних парадоксов, непредсказуемостей и неожиданных возможностей, включая потенциальную возможность довольно быстро разрушиться при введении определенных условий (что и произошло в конце перестройки). В период своего существования советская система не была видна полностью, как некое совокупное целое, ни из одной точки наблюдения - не извне, ни изнутри системы. Эту систему стало возможно увидеть и проанализировать как нечто единое только позже, ретроспективно, после того как она исчезла.
«Каждый период имеет своего человека, который его определяет», — заметил на одной из своих публичных лекций известный российский социолог и исследователь общественного мнения Юрий Левада.
Сама идеологема советского человека, по мнению директора Левада-центра Льва Гудкова, зародилась в 1920-1930-х годах и была необходима для строительства социалистического общественного строя. Подобные мифологемы свойственны всем тоталитарным обществам на ранних этапах их развития. И если в нацистской Германии и Италии полноценное становление человека не произошло в силу того, что режимы просуществовали недолго, то Советский Союз породил не одно поколение людей нового типа.
Получается, что правильный советский человек не представляет ни себя, ни что-либо еще вне государства.
Он ориентируется на контроль и вознаграждение со стороны государства, которое охватывает все стороны его существования. Одновременно с этим он ожидает, что его надуют, обманут, недодадут, отчего он уклоняется от своих обязанностей, халтурит и подворовывает. Он подозрителен во всем, что касается «нового» и «иного», недоверчив, пассивен, пессимистичен, завистлив и тревожен. Типичный советский человек индивидуально безответствен, склонен переносить вину за свое положение на других — правительство, депутатов, чиновников, начальство, западные страны, приезжих и т.п., но только не на себя самого. У него развивается тотальная фобия и неприязнь ко всему новому, чужому и иностранному.
В такой схеме отношения государства с человеком представляют собой изощренный симбиоз.
Формально власть заботится о нем, обеспечивает работой, жильем, пенсией, образованием и медициной. Он, в свою очередь, поддерживает власть, исполняет патриотический долг и защищает интересы государства.
Однако обе стороны уклоняются от заявленных обязанностей, и в результате государство оставляет человека на грани бедности и выживания, а он, в свою очередь, подворовывает и всячески увиливает.
Начиная с 2010 года психологи под руководством доктора психологических наук Влады Пищик провели серию исследований и выяснили, чем с психологической точки зрения различается ментальность советского, переходного и постсоветского поколений. В исследовании участвовали три группы испытуемых. В постсоветское поколение вошли рожденные в 1990-1995 годах, в поколение переходного периода — те, кто родился в 1980-1985 и 1960-1965 годах. К советскому поколению психологи отнесли родившихся в военное время, в 1940-1945 годах. Всего в исследовании приняли участие 2235 человек.
Проанализировав результаты психологических опросников, ученые сделали вывод, что для советского гражданина, жившего в атмосфере коллективизма, характерны такие культурные ценности, как «верность традициям», «открытость», «сердечность», «дисциплинированность», «уважение к власти». Переходное поколение склонно к так называемому горизонтальному индивидуализму. Среди его ярко выраженных параметров — «душевность», «разобщенность», «самостоятельность», «недоверие к власти», «свободолюбие», «анархия», «холодность», «соперничество».
Прежде всего это люди с неудовлетворенными потребностями в свободе и автономии, безопасности и признании и недовольные своим положением в обществе.
Они испытывают экзистенциальную тревогу от осознания конечности собственной жизни и с трудом самоопределяются. По мнению психологов, ощущение собственной реальной или мнимой неполноценности приводит к возникновению у них таких черт, как обидчивость и уязвимость перед окружающими, нетерпимость к недостаткам других, требовательность, вспыльчивость и агрессивность.
Для постсоветского поколения ведущими являются семейные, альтруистические и коммуникативные смыслы. Для переходных поколений — экзистенциальные, когнитивные, смыслы удовольствия и самореализации.
Основными у представителей советского поколения оказались семейные и экзистенциальные смыслы.
Переходные поколения в отношениях характеризуются властностью, неуступчивостью, упрямством и холодностью. Представители советского поколения, в свою очередь, более требовательны, уверены в себе, более отзывчивы и в то же время упрямы.
По оценке этнической толерантности у переходных поколений оказались самые низкие баллы; выше среднего проявилась толерантность к сложности и неопределенности окружающего мира; средними баллами выражена толерантность к иным взглядам, отступлениям от общепринятых норм и неавторитаризму. Советское же поколение получило низкие баллы по толерантности отступления от общепринятых норм, к иным взглядам и неавторитаризму; средние баллы — по этнической толерантности; выше среднего — по толерантности к сложности и неопределенности окружающего мира.
В исследовании особенностей высказываний и представлений о собственном «я» у разных поколений психологи обнаружили, что большинство высказываний у представителей переходного и советского поколений обладает признаками зависимости от группы.
У представителей постсоветского поколения 60% высказываний независимы от группы. Из этого следует, что представления о своем «я» в советском и переходных поколениях напрямую зависят от мнения коллектива.
Кризис повлияет на внуков и правнуков
Дедушки и бабушки тех, кому сейчас около 30 лет, пережили войну, голод, нищету и безработицу. Они были вынуждены начинать все с нуля, а потому в их системе ценностей ведущие позиции занимали стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Ряд исследователей, в частности семейный психолог Людмила Петрановская, считают, что войны, депортации, репрессии, кризисы становятся для людей историческими травмами, последствия которых размываются только к третьему-четвертому поколению.
Таким образом, перестройка 1990-х и общая атмосфера нестабильности отразились в неуверенности и беспомощности тех людей, чья ранняя и средняя взрослость пришлись на этот период. И отсутствие психологической безопасности привело к тому, подростки начала 1990-х чаще в сравнении с последующими поколениями проявляют беспомощность, тревожность и социальную пассивность.
25 декабря 1991 года Михаил Горбачев подал в отставку, и СССР не стало. Этот день стал не только началом эры свободы, выбора и новых возможностей, но и временем глубоких потрясений, беспроглядной бедности и разгула организованной преступности.
Журналистка Наталья Васильева, которая росла среди многих других детей в это время и вошла в первое поколение после распада СССР, вспоминает о днях своего детства. Когда Советский Союз перестал существовать, Наталье было 7 лет. Она описывает, какова была жизнь для ее поколения - поколения детей, родившихся в СССР, но выросших после его распада.
В августе 1991 года танки выехали на центральные улицы Москвы. Первой же реакцией моей мамы была тревога и страх, она тут же вспомнила о счетах большевистской революции, о которых она когда-то читала. «Это страшно!» - сказала она мне, 7-летней девочке, только начавшей учиться в начальной школе. Но переворот не удался, как было объявлено через несколько дней.

Семья Натальи Васильевой слушает речь Горбачева об отставке, 1991 год.
Для моих родителей мир идеологии холодной войны и повсеместного контроля правительства скоро растворился в социальных потрясениях, нищете и насилии. Но также появились новые политические свободы и, в конце концов, новые возможности. Такова была постсоветская Россия, в которой выросло мое поколение.

В первые годы правления Ельцина волна преступности захватила Москву. Те сцены из фильма «Однажды в Америке», которые мы с братом смотрели на пиратской видеокассете, мало чем отличались от происходящего в то время на улице. Угол буквально в квартале от нашего дома стал излюбленным местом сборищ всяких шаек и братков. Всю ночь раздавались громкие хлопки - иногда это был глушитель старого автомобиля, но чаще выстрелы из пистолетов.

Наталья с братом через несколько месяцев после распада СССР.

Наталья с бабушкой, 1992 год.

Двое мужчин продают одежду и обувь в киоске.

Московские школьники продают пепси-колу в бутылках мотоциклистам, май 1992 года.

Рынок в Москве, 1992 год.
Родители как могли уберегали меня от экономической ситуации в стране, однако я хорошо помню очереди в магазинах, дешевых пластиковых кукол на дни рождения, помню, как моя мама обрадовалась, когда ей подарили упаковку сахара в кубиках.

Через четыре года после распада СССР - Наталья и ее отец голосуют в ходе парламентских выборов, декабрь 1995 года.

Сотни молодых людей ждут, когда откроет свои двери магазин Levi Strauss and Co, февраль 1993 года.

Наталья с дедушкой и братом в Пушкино, 1995 год.