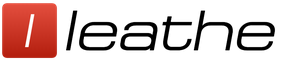Андре Грин – Синдром Мёртвой Матери: конспект лекции Драгунской Л.С. Андре Грин: поиск истоков депрессии
Аналитик, символизация и отсутствие в аналитическом сеттинге (об изменениях в аналитической практике и аналитическом опыте) - памяти Д. В. Винникотта
Андре Грин
Краткое содержание
В этой работе автор руководствуется собственными соображениями, но в то же время принимает в расчет вклад других аналитиков.
Акцент ставится на внутренних изменениях аналитика, чтобы показать, что необходимо обращать внимание не только на внутренние изменения пациента, но и на то, как они дублируются внутренними изменениями аналитика, благодаря способности последнего создавать, по принципу дополнительности, в своем психическом функционировании фигуру, гомологичную фигуре психического функционирования пациента.
Проблема показаний к анализу рассматривается с точки зрения разрыва между восприятием аналитика и материалом пациента, а также с точки зрения оценки того, как сообщения аналитика оказывают мобилизующее воздействие на психическое функционирование пациента, т.е. на возможность - которая по-разному проявляется в каждом отдельном случае и с каждым отдельным аналитиком - формирования аналитического объекта (символа) посредством встречи двух участников.
При описании имплицитной модели пограничного состояния доминирующее положение отводится расщеплению (условие формирования дубля) и декатексису (стремления к состоянию нуля), что показывает нам, что пограничные состояния ставят вопрос об ограниченных возможностях анализа перед лицом дилеммы «бред или смерть».
Особое внимание уделяется аналитическому сеттингу и психическому функционированию, в попытке структурировать условия, необходимые для формирования - через символизацию - аналитического объекта, с учетом вмешательства в отношения двух участников третьего элемента, т.е. сеттинга.
Место первичного нарциссизма дает нам точку зрения, которая дополняет предшествующую. Другими словами, наряду с пбрными коммуникациями объектных отношений существует инкапсулированное личное пространство, нарциссическая область, позитивно катектированная в безмолвном «я» бытия или негативно катектированная в стремлении к небытию. Существенное для психического развития измерение отсутствия находит свое место в потенциальном пространстве между «я» и объектом.
Эта работа не претендует на то, чтобы разрешить кризис, с которым столкнулся психоанализ; она лишь выявляет некоторые противоречия, присущие теоретическому плюрализму и разнородной практике. Мы попытались прежде всего создать образ психоанализа, отражающий личный опыт и придающий ему концептуальную форму.
Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи,
Кем задуман огневой
Соразмерный образ твой?
У. Блейк. Тигр.
Неясное древнее приключение все влечет
Меня. Оно безрассудно. Я целыми
Днями ищу тигра того, другого
Которого нет в стихотворении.
Х.Л. Борхес. Другой тигр.
Каждый аналитик знает, что важным условием решения пациента пройти анализ является неудовольствие, возрастающий дискомфорт и, в конце концов, испытываемое пациентом страдание. Что верно в этой связи для индивидуальной терапии, то верно и для психоаналитической группы. Несмотря на видимое процветание, психоанализ сейчас переживает кризис. Он страдает, если можно так выразиться, от глубинного недомогания. У этого недомогания есть как внутренние, так и внешние причины. Долгое время мы защищались от внутренних причин, сводя к минимуму их значимость. Дискомфорт, причиняемый нам внешними причинами, достиг той точки, в которой мы теперь вынуждены попытаться проанализировать эти причины. Будем надеяться, что мы, как психоаналитическая группа, несем в себе то, что ищем в наших пациентах: желание измениться.
Любой анализ нынешней ситуации внутри психоанализа должен осуществляться на трех уровнях: 1) анализ противоречий между психоанализом и социальным окружением; 2) анализ противоречий в сердце психоаналитических институтов (этих посредников между социальной реальностью, с одной стороны, и психоаналитической теорией и практикой - с другой); 3) анализ противоречий в сердце самого психоанализа (теории и практики).
Мы сталкиваемся с трудностями относительно внутренней связи этих трех уровней. Если их смешать, это приведет к путанице; если разделить - к расщеплению. Если бы нас полностью устраивало нынешнее состояние одного только третьего уровня, мы были бы склонны игнорировать два других. Тот факт, что это случается не всегда, несомненно, связан с факторами, действующими на первых двух уровнях. Впрочем, я должен буду сейчас оставить честолюбивую задачу четкого описания трех уровней. В настоящий момент мы располагаем достаточным материалом, чтобы попытаться исследовать некоторые противоречия в психоаналитической теории и практике, благодаря которым возникло вышеупомянутое недомогание. Анна Фрейд (1969) в своем ясном и мужественном анализе «Трудностей на пути психоанализа» из различных источников, напоминает нам, что психоанализ обрел путь к познанию Человека через негативный опыт невроза. Сейчас у нас есть шанс узнать о себе посредством нашего собственного негативного опыта. Наш нынешний недуг может дать начало проработке и преображению.
В этой работе, посвященной недавним изменениям, произошедшим благодаря психоаналитической практике и опыту, мне бы хотелось исследовать три следующих вопроса:
1) роль аналитика в контексте более широких представлений о контрпереносе, включая проработку воображения аналитика; 2) функция аналитического сеттинга и его отношение к психическому функционированию, как это показывает процесс символизации; 3) роль нарциссизма, которая противостоит роли объектных отношений и дополняет ее, как в теории, так и на практике.
Изменения в сфере психоанализа
Оценка изменений: объективный и субъективный взгляд
Поскольку я решил ограничиться недавними изменениями, я вынужден, к сожалению, отказаться от рассмотрения того, как психоанализ постоянно изменялся и развивался с самого начала. Это верно как в отношении работ самого Фрейда (в этом можно убедиться, если заново прочесть работы Фрейда в хронологическом порядке - 1904, 1905, 1910b, 1910a, 1912a, 1912b, 1913, 1914, 1915, 1919, 1937a - последовательность статей от «Психоаналитической процедуры Фрейда» (1904) до «Конечного и бесконечного анализа» (1937)), так и в отношении работ самых первых его коллег. Среди последних нам следовало бы, конечно, отвести особое место Ференци, который в своих поздних работах (1928, 1929, 1930, 1931, 1933) в патетической, противоречивой и зачастую неуклюжей манере предвосхитил будущие течения. Но если исполненные инсайтов изменения непрерывны, то восприятие их, как и в анализе, напротив, прерывно. Зачастую (и, конечно, именно так обстоит дело сегодня) представления об изменениях, сформулированные отдельными авторами за двадцать лет до того, становятся повседневной реальностью для каждого аналитика. Так, чтение психоаналитической литературы покажет, что уже в 1949 году Бален озаглавил одну из своих работ «Изменение терапевтических целей и техник в психоанализе» (Balint, 1950), а Винникотт в работе 1954 года «Метапсихологические и клинические аспекты регрессии в системе психоанализа» сформулировал основы нашего нынешнего понимания проблемы (Winnicott, 1955).
В первом приближении эта проблема рассматривается с «объективной» точки зрения, поскольку заставляет нас изучать пациента «в нем самом» («en soi»), причем в большинстве случаев аналитик не принимается во внимание. Кан (Khan, 1962) приводит впечатляющий список примеров, предъявляющих новые требования к аналитической ситуации. Он вводит термины, известные сейчас каждому аналитику, и ведет речь о пограничных состояниях, шизоидных личностях (Fairbairn, 1940), «как будто» личностях (H. Deutsch, 1942), нарушениях идентичности (Erikson, 1959), специфических дефектах эго (Gitelson, 1958), ложной личности (Winnicott, 1956) и базисной вине (Balint, 1960). Список можно продолжить, включив в него достижения французских аналитиков: догенитальные структуры (Bouvet, 1956), оперативное мышление психосоматических пациентов (Marty & de M»Uzan, 1963) и анти-анализируемый (McDougall, 1972). Сейчас всех занимает проблема нарциссической личности (Kernberg, 1970, 1974; Kohut, 1971). Тот факт, что большинство описаний, вновь открытых последними диагностическими исследованиями, оказались столь долговечными, наводит на размышления - не обязаны ли нынешние перемены не более, чем возросшей частоте подобных случаев.
Изменения, зафиксированные двадцать лет назад, теперь окончательно утверждаются в правах. И теперь наша задача - попытаться обнаружить признаки будущих изменений. Здесь я больше не буду рассматривать объективный подход, а вместо этого обращусь к субъективному. За рабочую гипотезу я приму идею о том, что осознание начинающих происходить сегодня изменений - это осознание изменений внутри аналитика . В мои намерения не входит описывать, каким образом на аналитика влияет отношение к нему Общества или какое действие на него оказывают наши методы отбора, подготовки или общения. И хотя все эти факторы, безусловно, важны, я ограничусь теорией и практикой, проистекающими из аналитической ситуации: т.е. представлениями о психической реальности, какой она видится в аналитической ситуации, и тем способом, с помощью которого пациент проигрывает эту реальность и дает возможность аналитику пережить ее. Ибо, с учетом всего остального, изменения происходят только в меру способности аналитика понять и описать эти изменения. Это не обязательно значит, что мы должны отрицать изменения в пациенте, но эти изменения подчинены изменениям чувствительности и восприятия в самом аналитике. Так же, как представления пациента о внешней реальности зависят от его видения своей психической реальности, наша картина его психической реальности контролируется нашими представлениями о нашей собственной психической реальности.
Мне кажется, что аналитики начинают все больше и больше осознавать, какую роль они играют - как в своей оценке пациента во время первых консультаций, так и в аналитической ситуации и с развитием анализа. Материал пациента не является чем-то внешним для аналитика, поскольку уже благодаря реальности переноса аналитик становится неотъемлемой частью материала пациента. Аналитик оказывает влияние даже на то, каким образом пациент предъявляет свой материал (Balint, 1962; Viderman, 1970; Klauber, 1972; Giovacchini, 1973). Балинт (1962) сказал на конгрессе 1961 года: «Поскольку мы, аналитики, говорим на разных аналитических языках, наши пациенты по-разному говорят с нами - поэтому наши языки столь отличаются друг от друга». Между пациентом и аналитиком устанавливаются диалектические отношения. Поскольку аналитик стремится общаться с пациентом на его языке, пациент в свою очередь, если он хочет, чтобы его поняли, может отвечать только на языке аналитика. И аналитику, в его попытке общения, остается только показывать, как он разбирается, посредством своего субъективного переживания, в действии, оказываемом на него сообщением пациента. Он не может претендовать на абсолютную объективность своего слушания. Кто-нибудь вроде Винникотта (Winnicott, 1949) мог бы показать нам, как, находясь в конфронтации с трудным пациентом, он должен пройти через более или менее критический личный опыт, гомологичный или комплементарный по отношению к опыту пациента, чтобы получить доступ к ранее скрытому материалу. Все чаще мы видим, что аналитики исследуют свои реакции на сообщения пациентов, используя их в своих интерпретациях наряду с (или предпочтительно) анализом содержания сообщений, поскольку пациент нацелен скорее на результат своего сообщения, нежели на передачу содержания этого сообщения. Я думаю, что одно из основных противоречий, с которыми сталкивается сегодня аналитик - это необходимость (и сложность) согласования набора интерпретаций (проистекающих из работ Фрейда и представителей классического анализа) с клиническим опытом и теорией последних двадцати лет. Проблема осложняется тем, что последние не образуют однородной совокупности идей. Фундаментальные изменения в современном анализе проистекают из того, что аналитик слышит - и, возможно, не может не слышать - то, что до сих пор было недоступно слуху. Я не хочу этим сказать, что у нынешних аналитиков более тренированный слух, чем у прежних - к сожалению, часто можно обнаружить обратное; я имею в виду, что они слышат самые разнообразные вещи, которые раньше оставались за порогом слышимости.
Эта гипотеза охватывает куда более широкую сферу, чем те точки зрения, которые предлагают расширить понятие контрпереноса (P. Heimann, 1950; Racker, 1968) в его традиционном смысле. Я согласен с Neyraut (1974), что контрперенос не ограничивается положительными или отрицательными аффектами, вызываемыми переносом, а включает в себя во всем объеме психическое функционирование аналитика, на которое оказывает влияние не только материал пациента, но также то, что аналитик читает, и его дискуссии с коллегами. Можно даже говорить о раскачивании от переноса к контрпереносу - без этого раскачивания нельзя было бы проработать то, что сообщает нам пациент. Коль скоро это так, я не думаю, что я переступаю границы, обозначенные Винникоттом (1960b) для контрпереноса, который он сводил к профессиональным установкам. Кроме того, расширенные представления о контрпереносе не подразумевают расширенных представлений о переносе.
Такой взгляд на вещи кажется мне оправданным тем фактом, что трудные случаи, о которых я упоминал выше - это именно те случаи, которые одновременно проверяют аналитика и вызывают у него контрперенос в строгом смысле слова, а также требуют от него более серьезного личностного вклада. Придерживаясь такой точки зрения, я рад, что говорю только за себя. Ни один аналитик не может претендовать на то, чтобы создать детальную картину современного анализа во всей его полноте. Я надеюсь не оправдать на собственном примере замечания Балинта (1950) о том, что смешение языков происходит из-за аналитика, поскольку каждый аналитик придерживается своего собственного аналитического языка. При многообразии диалектов, порожденных базовым языком анализа (см. Laplanche & Pontalis, 1973), мы пытаемся быть полиглотами, но наши возможности ограничены.
Дискуссии по поводу показаний к анализу и опасностей, связанных с пригодностью к анализу
На протяжении более чем двадцати лет мы являемся свидетелями превратностей нескончаемых письменных и устных дебатов между теми аналитиками, которые хотят ограничить пределы классической психоаналитической техники (Eissler, 1953; Fenichel, 1941; A. Freud, 1954; Greenson, 1967; Lampl-de Groot, 1967; Loewenstein, 1958; Neyraut, 1974; Sandler et al. 1973; Zetzel, 1956), и теми, кто высказывается за расширение этой техники (Balint, Bion, Fairbairn, Giovacchini, Kernberg, Khan, M. Klein, Little, Milner, Modell, Rosenfeld, Searles, Segal, Stone, Winnicott). Первые возражают против введения искажающих параметров и даже оспаривают правомерность использования термина «перенос» по отношению ко всем терапевтическим реакциям, таким, как у пациентов, упомянутых в последнем разделе (см. обсуждение этой проблемы у Sandler et al. 1973); или, если они признают расширенную номенклатуру «переноса», то называют его «неподатливым» (Greenson, 1967). Вторая группа аналитиков утверждает, что необходимо сохранять базовую методологию психоанализа (отказ от активной манипуляции, сохранение нейтральности, хотя и с оттенком благосклонности, упор на разнообразно интерпретируемый перенос), но при этом приспосабливать ее к нуждам пациентов и открывать новые направления исследований.
Раскол между ними более иллюзорен, чем кажется. Мы больше не можем с уверенностью противопоставлять случаи, прочно укорененные в классическом анализе, случаям, когда аналитикам приходится пробираться через неизведанные топи. Ибо сегодня даже изведанные области могут таить в себе множество неожиданностей: обнаружение маскированного психотического ядра, неожиданные регрессии, затруднения с мобилизацией некоторых глубинных слоев и ригидные характерологические защиты. Следствием всех этих особенностей зачастую становится более или менее бесконечный анализ. Последняя работа Лиментани (1972) затрагивает больную тему: наши прогнозы шатки как в отношении наших пациентов, так и в отношении наших кандидатов. Клинический материал из анализа кандидатов представлен в работе так же часто, как и материал из анализа пациентов. «Пригодный для анализа не значит поддающийся анализу». Это усиливает скептицизм тех, кто считает, что оценка перед установлением аналитической ситуации является фикцией. Даже лучшие из нас попадают в ловушки. Определение объективных критериев, пригодность для анализа (Nacht & Lebovici, 1955) и прогноз, например, в пограничных случаях (см. Kernberg, 1971) интересны, но ценность их ограничена. Лиментани делает наблюдение, что, если суждение о пригодности к анализу выносит еще одно лицо, окончательное решение в значительной степени зависит от теоретических взглядов, склонностей и взаимодействия второго аналитика с пациентом. Похоже, трудно установить объективные и общие границы пригодности к анализу, благодаря которым можно было бы не принимать в расчет опыт аналитика, его особые качества или теоретическую направленность. Любые границы будут преодолены интересом, возникшим у пациента: возможно, это интерес «по уговору», но его подогревает желание отправиться в новое приключение. Более того, в работе сторонника ограничения сферы психоанализа часто можно увидеть материал случая, противоречащий принципам, провозглашаемым автором. Вместо того, чтобы рассуждать о том, что следует и чего не следует делать, было бы куда полезнее прояснить, что же мы на самом деле делаем. Потому что может случиться, как сказал Винникотт (1955), что у нас больше нет выбора. Лично я не считаю, что всех пациентов можно подвергнуть анализу, но я предпочитаю думать, что пациент, относительно которого у меня есть сомнения, не может проходить анализ у меня . Я сознаю, что наши результаты не соответствуют нашим амбициям и что неудачи более распространены, чем мы могли бы надеяться. Однако нас не может удовлетворить, как в медицине или психиатрии, объективное отношение к неудаче, когда положение может измениться благодаря терпению аналитика или в ходе дальнейшего анализа. Мы должны еще и спросить себя о ее субъективной значимости для пациента. Винникотт показал нам, что существует потребность повторять неудачи, пережитые во внешнем мире, и мы знаем, что пациент переживает триумф всемогущества независимо от того, стало ли ему лучше по окончании анализа или никаких изменений не произошло. Возможно, единственная неудача, за которую мы несем ответственность - это наша неспособность заставить пациента соприкоснуться со своей психической реальностью. Ограничения пригодности к анализу могут быть только ограничениями аналитика, alter ego пациента. В заключение мне бы хотелось сказать, что подлинная проблема, связанная с показаниями к анализу - это оценка аналитиком разрыва между его способностью понимания и материалом, предоставляемым данным пациентом, а также определение возможных последствий того, что он - через эту расщелину - может, в свою очередь, сообщить пациенту (того, что сможет мобилизовать психическое функционирование пациента в смысле проработки внутри аналитической ситуации). Для аналитика его заблуждения относительно собственных способностей обладают не менее серьезными последствиями, чем заблуждения относительно способностей пациента. Таким образом, в семье аналитиков место найдется всякому, независимо от того, посвятил ли он себя классическому анализу или расширению его пределов - или же занят (что случается чаще) и тем, и другим.
Ревизия модели невроза и имплицитная модель пограничных состояний
Остался ли в неприкосновенности невроз - сердце классического анализа? Можно попытаться ответить на это вопрос. Я не собираюсь выяснять причины, по которым невроз стал встречаться все реже - это много раз обсуждавшееся явление потребовало бы пространного исследования. Невроз, ранее обычно считавшийся сферой иррационального, теперь рассматривается в качестве последовательной триады, состоящей из инфантильного невроза, взрослого невроза и невроза переноса. При неврозе преобладает анализ переноса. Посредством анализа сопротивления узлы невроза развязываются практически сами собой. Анализ контрпереноса может быть ограничен осознанием тех элементов конфликта внутри аналитика, которые не благоприятствуют развитию переноса. В пределе роль аналитика как объекта анонимна: его место мог бы занять другой аналитик. Из всех элементов влечения легче всего заменить его объект; в теории и практике анализа роль объекта также остается неясной. Вытекающая отсюда метапсихология считает индивида способным к развитию без посторонней помощи - несомненно, при определенной помощи объекта, на который он полагается, но без растворения в объекте и без потери объекта.
Фрейдова имплицитная модель невроза основана на перверсии (невроз - негатив перверсии). Сегодня у нас могут возникать сомнения, действительно ли психоанализ все еще придерживается такого взгляда. Имплицитная модель невроза и перверсии в наши дни базируется на психозе. Эта эволюция в общих чертах обозначена в последней части работы Фрейда. В результате сегодняшние аналитики более чутко реагируют на скрывающийся за неврозом психоз, чем на перверсию. Это говорит не о том, что все неврозы «выгравированы» на лежащем в их основе психозе, а о том, что первертные фантазии невротиков интересуют нас меньше, чем психотические защитные механизмы, которые мы обнаруживаем здесь в слабой форме. На самом деле от нас требуется прислушиваться к двойному коду. Поэтому я и говорил выше о том, что сегодня мы слышим совсем другие вещи - те, что раньше были недоступны слуху. И именно по этой причине некоторые аналитики (Bouvet, 1960) пишут, что анализ невроза нельзя считать завершенным, пока мы не достигли, пусть и поверхностно, психотического уровня. Сегодня наличие психотического ядра внутри невроза (при условии, что оно кажется доступным) пугает аналитика меньше, чем навязчивые и ригидные защиты. Это заставляет нас пристрастно исследовать аутентичность таких пациентов, даже если они чистой воды невротики и обладают видимой подвижностью и изменчивостью. Когда мы в конце концов достигаем психотического ядра, мы обнаруживаем то, что можно назвать «частным безумием» пациента; и это может быть одной из причин, по которым интерес аналитиков в настоящее время смещается в сторону пограничных состояний.
С этого момента я буду использовать термин «пограничные состояния» не для обозначения особых клинических феноменов по контрасту с остальными феноменами (напр., ложная самость, проблемы идентичности или базисная вина), а как общее клиническое понятие, которое можно подразделить на множество аспектов. Вероятно, лучше было бы назвать их «пограничными состояниями пригодности к анализу». Возможно, в современной клинической практике пограничные состояния играют ту же роль, какую играл «актуальный невроз» в теории Фрейда, с той разницей, что пограничные состояния - это долговечные организации, способные по-разному развиваться. Мы знаем, что такой клинической картине не хватает структуры и организации - не только в сравнении с неврозами, но и в сравнении с психозами. В отличие от неврозов, здесь можно наблюдать отсутствие младенческого невроза, полиморфный характер так называемого взрослого «невроза» и расплывчатость невроза переноса.
Современный анализ балансирует между двумя крайностями. На одном полюсе лежит социальная «нормальность», которой МакДугалл (1972) дала впечатляющее клиническое описание, введя понятие «антианализант». Она описывает провал попытки начать аналитический процесс, хотя и была создана аналитическая ситуация. Перенос оказывается мертворожденным, несмотря на все усилия аналитика помочь «при родах» или даже спровоцировать его появление на свет. Аналитик чувствует себя пойманным в сеть из мумифицированных объектов пациента, парализованным в своих действиях и неспособным пробудить в пациенте какое бы то ни было любопытство по поводу его самого. Аналитик находится в ситуации «исключения объекта». Его попытки интерпретировать воспринимаются пациентом как безумие, что вскоре приводит к тому, что аналитик декатектирует своего пациента и впадает в состояние инерции, для которой характерны эхо-реакции. На другом полюсе находятся состояния, объединенные стремлением к регрессии, слиянию и зависимости от объекта. Существует множество разновидностей такой регрессии, от блаженства до ужаса, от всемогущества до полной беспомощности. Их интенсивность варьируется от открытых проявлений до слабых признаков наличия такого состояния. Его можно обнаружить, например, в крайне свободном ассоциировании, расплывчатости мышления, несвоевременных соматических проявлениях на кушетке, как если бы пациент пытался общаться при помощи языка тела; или еще проще: когда аналитическая атмосфера становится тяжелой и гнетущей. Здесь очень важны присутствие (Nacht, 1963) и помощь объекта. От аналитика в этом случае требуется не только его способность к аффектам и эмпатии. Здесь необходимы его ментальные функции, поскольку структуры смысла у пациента бездействуют. Именно здесь контреперенос обретает наиболее широкое значение. Техника анализа неврозов дедуктивна, техника анализа пограничных состояний - индуктивна, отсюда весь связанный с ней риск. Работы авторов, которые пишут о пограничных состояниях - неважно, насколько по-разному они их описывают, какие выдвигают причины и какие техники используют- построены на трех фактах: 1) Переживание первичного слияния свидетельствует о неразличении субъекта и объекта, когда границы «я» становятся размытыми. 2) Из дуальной организации «пациент-аналитик» вытекает особый способ символизации. 3) Наличествует потребность в структуральной интеграции через объект.
Между этими двумя крайностями («нормальность» и регрессия к слиянию) существует множество защитных механизмов против регрессии. Я распределю их по четырем основным категориям. Первые две - это механизмы психотического короткого замыкания, а последние две - базовые психические механизмы.
Соматическое исключение . Соматические защиты полярно противоположны конверсии. Регрессия выводит конфликт из психической сферы, привязывая его к сома - телу (а не к либидинозному телу), разделяя психе и сома, психику и тело. Это приводит к асимволическому образованию, посредством трансформации либидинозной энергии в нейтрализованную (я вкладываю в этот термин иное значение, в отличие от Хартманна), т.е. чисто соматическую энергию, что иногда ставит жизнь пациента под угрозу. Я сошлюсь здесь на работы Marty, de M»Uzan & David (1963) и M. Fain (1966). Эго защищается от возможной дезинтеграции из-за воображаемого столкновения, которое может разрушить как само эго, так и объект, с помощью исключения, напоминающего отреагирование, но направленного теперь на нелибидинозное телесное эго.
Выталкивание через действие . Отреагирование, «действие вовне», является внешним аналогом психосоматическому «действию внутрь». Оно также помогает избавиться от психической реальности. Содержащиеся в действии функция преобразования реальности и функция общения затмеваются его (действия) экспульсивной целью. Важно отметить, что этот акт совершается в предвкушении такого типа отношений, в которых эго и объект поочередно поглощаются.
Примечательным следствием действия этих двух механизмов является психическая слепота. Пациент ослепляет себя, делается невосприимчивым к своей психической реальности - как к соматическим источникам своего влечения, так и к точке входа этого влечения во внешнюю реальность - избегая промежуточного процесса проработки, уточнения. В обоих случаях у аналитика возникает впечатление, что он находится вне контакта с психической реальностью пациента. Ему приходится создавать воображаемую конструкцию этой реальности, ориентируясь на соматические проявления или на взаимосвязь социальных действий, которые настолько сверхкатектированы, что затмевают внутренний мир.
Расщепление . Механизм так называемого расщепления пребывает в психической сфере. Все остальные защиты, описанные кляйнианскими авторами (из них общепринятыми стали такие, как проективная и интроективная идентификация, отрицание, идеализация, всемогущество, маниакальная защита и т.д.), вторичны по отношению к ней. Проявления расщепления весьма разнообразны - от оберегания секретной неконтактной зоны, где пациент совершенно один (Fairbairn, 1940; Balint, 1968) и где его истинное «я» находится в безопасности (Winnicott, 1960a, 1963a), или где скрывается часть его бисексуальности (Winnicott, 1971), до атак на связный процесс мышления (Bion, 1957, 1959, 1970; Donnet & Green, 1973), проекции плохой части своего «я» и объекта (M. Klein, 1946) и существенного отрицания реальности. Когда идут в ход эти механизмы, аналитик находится в контакте с психической реальностью, но он либо ощущает, что отрезан от недоступной части этой реальности, либо видит, что его вмешательства разваливаются на глазах и что его воспринимают как преследующего и вторгающегося.
Декатексис . Здесь я буду рассматривать первичную депрессию, почти в физическом смысле слова, созданную радикальным декатексисом со стороны пациента, который хочет достичь состояния пустоты и стремится к небытию и ничто. Дело здесь в механизме, который, на мой взгляд, находится на одном уровне с расщеплением, но отличается от вторичной депрессии, целью которой, по кляйнианским авторам, является репарация. Аналитик чувствует себя отождествляемым с пространством, лишенным объектов, или же обнаруживает, что находится вне этого пространства.
Наличие этих двух последних механизмов предполагает, что фундаментальная дилемма пациента, скрывающаяся за всеми защитными маневрами, может быть сформулирована следующим образом: бред или смерть .
Имплицитная модель невроза в прошлом вернула нас к тревоге кастрации. Имплицитная модель пограничных состояний возвращает нас к противоречию, создавшемуся из-за двойственности: тревога сепарации/тревога вторжения. Отсюда вся важность понятия дистанции (Bouvet, 1956, 1958). Результат этой двойной тревоги, которая иногда становится мучительной, имеет отношение, как мне кажется, не к проблеме желания (как при неврозе), а к формированию мышления (Bion, 1957). В сотрудничестве с Донне (Donnet & Green) я описал то, что мы назвали чистым психозом (psychose blanche) , т.е. то, что, как мы считаем, является фундаментальным психотическим ядром. Его характеристики: блокирование процессов мышления, торможение функций репрезентации и «би-триангуляция», где разделяющее два объекта различие между полами маскирует расщепление одного объекта, хорошего или плохого. Таким образом, пациенту причиняет страдания как преследующий вторгающийся объект, так и депрессия по поводу потери объекта.
Наличия базисных механизмов по линии психоза и их производных недостаточно для характеристики пограничных состояний. В действительности, анализ показывает нам, что эти механизмы и их производные наслаиваются на защитные механизмы, описанные Анной Фрейд (1936). Многие авторы, используя различную терминологию, указывают на сосуществование психотической и невротической частей личности (Bion, 1957; Gressot, 1960; Bergeret, 1970; Kernberg, 1972; Little & Flarsheim, 1972). Сосуществование этих частей может определяться тем неразрешимым тупиком, в который зашли отношения между принципом реальности и сексуальным либидо, с одной стороны, и принципом удовольствия и агрессивного либидо, с другой. Все, что для «я» связано с получением удовольствия, и любая реакция «я» на реальность - все это пропитывается агрессивными компонентами. И наоборот: поскольку разрушение сопровождается своего рода объектным рекатексисом, либидинозным в самой примитивной форме, два аспекта либидо (сексуальный и агрессивный) в этом случае не слишком хорошо различаются. Такие пациенты демонстрируют сверхчувствительность к утрате; но они также в состоянии восстановить объект с помощью хрупкого и опасного замещающего объекта (Green, 1973). Эта установка проявляется в психическом функционировании через смену процессов связывания и разъединения. В результате постоянно переоцениваются или недооцениваются функция аналитика как объекта, а также степень развития аналитического процесса.
Теперь я постараюсь более подробно разобрать наши наблюдения по поводу чистого психоза . Объектные отношения, которые демонстрирует нам пациент, в этом психотическом ядре без видимого психоза являются не диадными, а триадными, т.е. в эдипальной структуре присутствует как мать, так и отец. Однако глубинное различие между этими объектами состоит ни в различии полов или функций. Дифференциация проводится по двум критериям: хороший и плохой объект, с одной стороны; ничто (или утрата) и доминирующее присутствие, с другой. С одной стороны, хороший объект недоступен, как если бы он был вне пределов досягаемости, или же никогда не присутствует достаточно долго. С другой, плохой объект все время вторгается и никогда не исчезает, разве что только на очень короткое время. Таким образом, мы имеем дело с треугольником, основанном на отношениях между пациентом и двумя симметрично противоположными объектами, которые в действительности являются единым целым. Отсюда термин «би-триангуляция». Обычно мы описываем такого рода отношения только в терминах отношений любви-ненависти. Это не годится. Необходимо учитывать значение этих отношений для процессов мышления. В действительности вторгающееся присутствие пробуждает бредовое ощущение влияния и недоступности для депрессии. В обоих случаях это сказывается на мышлении. Почему? Потому что в обоих случаях невозможно установить (конституировать) отсутствие. Всегда навязчиво присутствующий объект, постоянно занимающий личное психическое пространство, мобилизует постоянный декатексис, чтобы сопротивляться этому прорыву; это истощает ресурсы эго или побуждает его избавляться от своего бремени с помощью выталкивающей (экспульсивной) проекции. Никогда не отсутствуя, этот объект не может быть помыслен. И наоборот: недоступный объект невозможно ввести в личное пространство (по крайней мере, на достаточно долгий срок). Таким образом, основой для него не может стать модель воображаемого или метафорического присутствия. Даже если это было бы возможно на какое-то мгновение, плохой объект устранил бы воображаемое присутствие. А если бы плохой объект уступил, то психическое пространство, которое лишь на мгновение может быть занято хорошим объектом, оказалось бы совершенно безобъектным. Этот конфликт приводит к божественной идеализации, которая воображает недоступный хороший объект (негодование и обида по поводу его недоступности активно отрицается), и к представлениям о дьявольском преследовании со стороны плохого объекта (привязанность, подразумеваемая такой ситуацией, точно так же отрицается). Результат такой ситуации в случаях, о которых идет речь - не явный психоз, при котором механизмы проекции работают в широкой области, и не открытая депрессия, при которой может иметь место работа горя. Конечный результат - паралич мышления, выражающийся в негативной гипохондрии, особенно в области головы, т.е. ощущение пустоты в голове или дырки в умственной деятельности, неспособность сконцентрироваться, запоминать и т.п. Борьба с подобными ощущениями может запустить искусственный процесс мышления: умственная жвачка, род псевдообсессивно-компульсивного мышления, квазибредовая бессвязная речь и т.д. (Segal, 1972). Возникает искушение счесть все это результатом вытеснения. Но это не так. Когда невротик жалуется на подобные явления, у нас есть хороший повод решить, если позволяет контекст, что он сражается с репрезентациями желаний, подвергшихся цензуре суперэго. Когда мы имеем дело с психотиком, это мы предполагаем наличие скрытых фантазий, лежащих в основе всего. На мой взгляд, эти фантазии расположены не «за» пустым пространством, как у невротиков, а «после» него, т.е. это форма рекатексиса. Я имею в виду, что плохо проработанные примитивные влечения снова стремятся прорваться в пустое пространство. На позицию аналитика перед лицом этих феноменов воздействует структура пациента. Аналитик отреагирует на пустое пространство интенсивным усилием мысли, чтобы попытаться помыслить то, что не может помыслить пациент, и что найдет свое выражение в попытке со стороны аналитика достичь воображаемой репрезентации, чтобы не поддаться психической смерти. И, наоборот, столкнувшись с вторичной проекцией безумия, он может почувствовать растерянность, даже изумление. Пустое пространство должно наполниться, а избыток - схлынуть, уйти. Здесь трудно найти равновесие. Преждевременное наполнение пустоты с помощью интерпретации равносильно повторному вторжению плохого объекта. С другой стороны, если оставить пустоту как она есть, это будет равнозначно недоступности хорошего объекта. Если аналитик испытывает растерянность или изумление, он уже не находится в позиции, позволяющей сдерживать, контейнировать затопление, которое начинает безгранично расширяться. И, наконец, если аналитик реагирует на этот поток вербальной сверхактивностью, то, даже при самых благих намерениях, его реакция превращается в интерпретативное возмездие. Единственное решение - дать пациенту образ проработки, поместив то, что он нам дает, в пространство, не являющееся ни пустым, ни затопленным: проветриваемое пространство - не пространство «это ничего не значит» или «это значит, что...», а пространство «это может значить, что...». Это пространство потенциального, пространство отсутствия, поскольку (первым это заметил Фрейд) именно в отсутствие объекта создается его репрезентация, источник мышления. И я должен добавить, что язык накладывает здесь на нас ограничения, поскольку «стремление к значению» связано не просто с использованием слов, обладающих содержанием: оно указывает на то, что пациент ищет, как ему передать сообщение в самой элементарной форме; это направленная на объект надежда, где цель совершенно неопределенная. Это, вероятно, оправдывает рекомендацию Биона (1970): аналитику следует попытаться достичь состояния, лишенного воспоминаний и желаний, несомненно, для того, чтобы состояние пациента проникло в нас как можно полнее. Цель, к которой нужно стремиться - работа с пациентом должна осуществляться по двум направлениям: создавать контейнер для содержания пациента и содержание для его контейнера, тем не менее, всегда держа в уме (по крайней мере, в уме аналитика) гибкость границ и поливалентность смыслов.
Поскольку анализ был рожден из опыта невроза, он взял за точку отсчета представление (мысль) о желании. Сегодня мы можем утверждать, что желания есть только потому, что есть мысли; мы используем этот термин в широком смысле (включая самые примитивные формы). Сомнительно, чтобы внимание, уделяемое сегодня мыслям и мышлению, проистекало из интеллектуализации. Ибо своеобразие психоаналитической теории, начиная с первых работ Фрейда, заключается в соединении мыслей и влечений. Можно даже пойти дальше и заявить, что влечение - зачаточная форма мышления. Между влечением и мышлением располагается целая серия разнообразных промежуточных цепочек, своеобразно концептуализированных Бионом. Но недостаточно будет просто представить себе иерархию этих цепочек. Влечения, аффекты, предметные и словесные репрезентации сообщаются друг с другом; одна структура подвергается влиянию другой. Точно так же формируется бессознательное. Но психическое пространство сдерживается границами. Напряжение внутри этих границ остается переносимым, и удовлетворение самых иррациональных желаний - заслуга психического аппарата. Видеть сон в то время, как исполняется желание - достижение психического аппарата, не только потому, что сон исполняет желание, но и потому, что сновидение само по себе есть исполнение желания видеть сон. Аналитическую сессию часто сравнивают со сновидением. Если это сравнение и оправдано, то только потому, что, подобно тому, как сон содержится внутри неких пределов (упразднение противоположных полюсов восприятия и моторной деятельности), сессия сдерживается условиями аналитических формальностей. Именно это сдерживание способствует осуществлению специфического функционирования различных элементов психической реальности. Но все это верно в применении к классическому анализу неврозов и подлежит пересмотру в трудных случаях.
Текущие проблемы, возникающие благодаря параллельному развитию теории и практики
Психическое функционирование и аналитический сеттинг
В параллельном развитии психоаналитической теории и практики можно выделить три тенденции. Из-за нехватки места я вынужден дать лишь общий набросок; как все наброски, он отличается весьма приблизительной точностью, поскольку реальность, будучи гораздо более сложной, пренебрегает произвольными ограничениями и различные потоки вливаются один в другой.
Первая тенденция: аналитическая теория была привязана к исторической реальности пациента. Она вскрывала конфликт, бессознательное, фиксации и т.д. Она развивалась в направлении изучения эго и механизмов защиты (Anna Freud, 1936), ее расширяли психоаналитические исследования психологии эго (Hartmann, 1951). На практике она обнаруживает себя в исследовании переноса (Lagache, 1952) и сопротивления; при этом применяются эмпирически установленные психоаналитические правила и не вводятся технические новшества.
Вторая тенденция: интерес сместился в сторону объектных отношений, очень по-разному понимаемых (напр., Balint, 1950; Melanie Klein, 1940, 1946; Fairbairn, 1952; Bouvet, 1956; Modell, 1969; Spitz, 1956, 1958; Jacobson, 1964). В параллельном движении идея невроза переноса постепенно замещалась понятием психоаналитического процесса. Этот процесс рассматривался как форма организации, в течение анализа, внутреннего развития психических процессов пациента, или как обмен между пациентом и аналитиком (Bouvet, 1954; Meltzer, 1967; Sauget, 1969; Diatkine & Simon, 1972; Sandler et al., 1973).
Третья тенденция: здесь можно отметить сосредоточенность на психическом функционировании пациента (Бион и парижская психосоматическая школа), а в клинической практике ставятся вопросы о функции аналитического сеттинга (Winnicott, 1955; Little, 1958; Milner, 1968; Khan, 1962, 1969; Stone, 1961; Lewin, 1954; Bleger, 1967; Donnet, 1973; Giovacchini, 1972a). Эти вопросы относятся к тому, является ли сеттинг (система) предварительным условием, определяющим аналитический объект и изменение (цель специфического применения аналитического сеттинга). Это проблема как эпистемологическая, так и практическая.
Для ясности мы можем сказать, что аналитическая ситуация - это совокупность элементов, образующих аналитические отношения: в самом сердце этих отношений мы с течением времени можем наблюдать процесс, узлы которого завязываются с помощью переноса и контрпереноса благодаря установлению аналитического сеттинга и накладываемым им ограничениям. (Это определение дополняет определение Bleger, 1967).
Будем говорить конкретнее. В классическом анализе пациент, пережив удивление в начале, кончает тем, что усваивает все те элементы ситуации, которые позволяют анализу продвигаться дальше (регулярные встречи, фиксированная длина сессий, позиция на кушетке и в кресле, ограничение общения вербальным уровнем, свободные ассоциации, окончание сессии, регулярные перерывы, значение оплаты и т.д.). Поглощенный тем странным, что происходит внутри него, он забывает о сеттинге и вскоре позволяет развиться переносу с тем, чтобы приписать это странное объекту. Элементы сеттинга дают материал для интерпретации только тогда, когда есть окказиональные изменения. Как заметил Bleger (1967) и другие, сетинг создает безмолвную, немую основу, константу, которая дает изменчивому процессу возможность разгуляться. Это не-я (Milner, 1952), которое обнаруживает свое существование только в отсутствии. Это можно было бы сравнить с безмолвным здоровьем тела, если бы Винникотт не предложил сравнение еще лучше - заботливая среда.
Наш опыт обогатился благодаря анализу пациентов, которые не могут использовать сеттинг как заботливую среду. Они не просто не сумели воспользоваться им: как будто бы где-то внутри себя они оставили его нетронутым в не-пользовании им (Donnet, 1973). Таким образом, от анализа содержимого мы переходим к анализу контейнера, анализу самого сеттинга. Можно найти аналоги на других уровнях. Под «холдингом» Винникотта подразумевается забота внешнего объекта, под «контейнером» Биона - внутренняя психическая реальность. Но для исследования объектных отношений, даже если считать анализ «биперсональной психологией», этого недостаточно. Мы должны еще и исследовать пространство, в котором развиваются это отношения, его границы и его разрывы, а также изучить развитие этих отношений во времени, непрерывность и прерывания во времени.
Можно установить две ситуации. О первой уже шла речь выше: в ней безмолвный сеттинг подвергается забвению, как если бы он отсутствовал. Именно на этом уровне анализ происходит между людьми: это позволяет нам проникнуть в их субструктуры и интрапсихические конфликты между процессами (Rangell, 1969) и даже дает возможность анализировать частичные объектные отношения, содержащиеся в функциональном целом, в той мере, в какой атмосфера сессии остается подвижной, а процессы - относительно ясными. Интерпретация может себе позволить роскошь утонченности. Взаимодействие людей отодвигает отношения с сеттингом на задний план.
Вторая ситуация - та, в которой присутствие сеттинга становится ощутимым. Возникает ощущение, что происходит нечто, противодействующее сеттингу. Такое ощущение может возникнуть у пациента, но прежде всего оно присутствует у аналитика. Аналитик ощущает действие напряжения, внутреннего давления: это заставляет его осознать необходимость действовать посредством и внутри аналитического сеттинга, словно для того, чтобы защитить его от угрозы. Это напряжение вынуждает его войти в мир, который он видит лишь мельком и который требует от него усилий воображения. Это тот случай, когда анализ развивается не между людьми, а между объектами, как если бы люди утратили свою реальность и уступили место неопределенному полю объектов. Некоторые репрезентации могут благодаря своей живости внезапно обрести очертания, вынырнув из тумана, но в пределах воображения. Часто случается, что у аналитика даже еще более неопределенные впечатления, не облекающиеся ни в образы, ни в воспоминания, связанные с ранними фазами анализа. Эти впечатления, похоже, воспроизводят некоторые траектории влечений через внутреннее движение в аналитике и пробуждают ощущения завертывания и развертывания. На стадии этих движений происходит интенсивная работа, с помощью которой эти движения в конце концов передаются в сознание аналитика перед тем, как ему превратить их с помощью внутренних преобразований в последовательность слов, которые будут в нужный момент использованы для передачи сообщения пациенту вербальными средствами. Когда аналитик достигает своего рода внутренней упорядоченности, часто до вербализации, аффективный разброд превращается в чувство удовлетворения от того, что удалось прийти к связному объяснению, играющему роль теоретической конструкции (в том смысле, в каком Фрейд использовал это выражение в своем описании инфантильных сексуальных теорий). В этот момент неважно, правильная это теория или ложная - всегда будет время скорректировать ее позже в свете дальнейшего опыта. Значение имеет лишь тот факт, что удалось закрепить зародыш и придать ему форму. Все происходит так, как если бы именно аналитику удалось достичь состояния, аналогичного галлюцинаторной репрезентации желания, как у ребенка или невротика. Часто говорят об ощущении всемогущества, которым сопровождается реализация галлюцинаторного желания. Но это ощущение возникает раньше. Оно связано с успешным преобразованием - закреплением зачатка в обладающей значением форме: она может быть использована как модель для дешифровки будущей ситуации. Однако аналитик должен посвятить себя задаче проработки, поскольку сам пациент способен лишь в минимальной степени приблизиться к структуре; этой структуре не хватает связанности, чтобы обладать смыслом, но она вполне связна для того, чтобы мобилизовать все мыслительные паттерны аналитика - от самых элементарных до самых сложных, и повлиять, хотя бы ориентировочно, на символизацию, которая все время начинается и никогда не заканчивается.
Приведенное мною описание можно применить либо к некоторым критическим моментам в классическом анализе (по достижении глубинных слоев), либо в более широком смысле к общей атмосфере анализа трудных случаев, по контрасту со случаями классического анализа. Но необходимо помнить, что такая работа возможна только в условиях аналитического сеттинга и гарантий, предоставляемых его постоянством и неизменностью, транслирующими важность присутствия аналитика как человека. Это необходимо для того, чтобы сохранять изолированность аналитической ситуации, невозможность разрядки, близкий контакт, ограниченный сферой психического, и уверенность в том, что безумные мысли не выйдут за стены комнаты для консультаций. Это гарантия того, что язык - транспортное средство мыслей - останется метафорическим; что сессия завершится; что за ней последует другая сессия и что ее веская истинность, более истинная, чем реальность, рассеется, как только за пациентом закроется дверь. Таким образом, вместо того, чтобы говорить, что установление сеттинга воспроизводит объектные отношения, я считаю более уместным сказать, что установление сеттинга позволяет объектным отношениям появиться на свет и развиться. Я сделал центром своего описания ментальное функционирование, а не выражение влечений и защит, лежащих в основе этого функционирования, поскольку о влечениях и защитах уже многое было сказано, в то время как ментальное функционирование все еще остается обширной неизведанной территорией внутри аналитического сеттинга.
Когда теория объектных отношений была в самом начале своего развития, мы сначала стали описывать взаимодействие «я» и объекта в терминах внутренних процессов. Никто не обратил внимания на то, что во фразе «объектные отношения» слово «отношения» было более значимым. Нашему интересу следовало сосредоточиться на том, что лежит между этими связанными с действиями понятиями или между результатами различных действий. Другими словами, исследование отношений - это скорее исследование связей, звеньев, соединяющих эти понятия, а не исследование самих понятий. Именно природа связи, придающей материалу истинно психический характер, отвечает за интеллектуальное развитие. Эта работа откладывалась до тех пор, пока Бион не исследовал связи между внутренними процессами, а Винникотт не изучил взаимодействие внутреннего и внешнего.
Рассмотрим вначале последний случай. Мы узнаем о том, что происходит внутри пациента, только посредством того, что он нам рассказывает. Нам не хватает знания об источнике сообщения и о том, что разворачивается внутри этих двух пределов. Но мы можем преодолеть свое неведение относительно внутреннего пространства, наблюдая за тем действием, которое сообщение оказывает на нас, и за тем, что возникает между нашими аффективными (точнее даже телесными) впечатлениями и нашим ментальным функционированием. Конечно, нельзя утверждать, что именно это и происходит внутри у пациента: мы можем лишь сказать, гомологично или аналогично то, что происходит с нами, тому, что происходит с пациентом. И мы перемещаем знание о том, что происходит в нашем собственном внутреннем пространстве, в пространство между нами и пациентом. Сообщение пациента - отличное от того, чем он живет и что чувствует - располагается в переходном пространстве между ним и нами точно так же, как и наша интерпретация, которую влечет за собой сообщение. Благодаря Винникотту мы знаем о функции переходного пространства - потенциального пространства, которое соединяет и разделяет мать и ребенка, создавая новую категорию объектов. Язык, на мой взгляд - наследник первых переходных объектов.
Я упомянул выше о работе символизации и сейчас хотел бы объяснить, почему внутренние процессы аналитика своей целью имеют создание символизации. Понятие символа я использую здесь в том смысле, который выходит за рамки значения, придаваемого этому понятию в психоанализе, но очень тесно соотносится с первоначальным определением. Символ - это «разломленный на две части предмет: условный знак, с помощью которого узнавали друг друга владельцы половинок, соединив их вместе» (Dictionnaire Robert ). Разве не это происходит в аналитическом сеттинге? Ничто в этом определении не подразумевает того, что половинки должны быть одинаковыми. Таким образом, даже если работа анализа заставляет аналитика предпринимать значительные усилия, чтобы создать в уме картину психического функционирования пациента, он восполняет то, чего не хватает пациенту. Я сказал, что он замещает недостающую часть, чтобы понять отношения между источниками сообщения и его образованием, наблюдая гомологичные процессы в себе самом. Но в конце концов реальный аналитический объект не находится ни на стороне пациента, ни на стороне аналитика: он там, где встречаются два сообщения в потенциальном пространстве, лежащем между ними, ограниченном рамками сеттинга, который прерывается при каждой сепарации и восстанавливается при каждой новой встрече. Если мы предположим, что каждый из участников, пациент и аналитик, представляет собой союз двух частей (то, чем они живут, и то, что они сообщают), одна из которых является дублем другой (я использую слово «дубль» в смысле широких гомологических связей и допускаю при этом существование различий), то сможем увидеть, что аналитический объект состоит из двух дублей - один дубль пациента, а другой аналитика. Нужно просто слушать пациентов, чтобы понять, что они постоянно это подразумевают. Существенным условием формирования аналитического объекта будет установление гомологичных и комплементарных отношений между пациентом и аналитиком. Формулировки наших интерпретаций определяются не тем, как мы оцениваем то, что понимаем или чувствуем. Сформулированная или отвергнутая, интерпретация всегда основывается на дистанции между тем, что аналитик хочет сообщить, и тем, что пациент в состоянии усвоить, чтобы создать аналитический объект (я называю это полезной дистанцией и действенным различием). С этой точки зрения аналитик не только раскрывает скрытое значение. Он конструирует значение, которое никогда не создавалось до того, как начались аналитические отношения (Viderman, 1970). Я бы сказал, что аналитик создает отсутствующее значение (Green, 1974). Надежда в анализе опирается на понятие потенциального смысла (Khan, 1974b), который позволит присутствующему и отсутствующему смыслам встретиться в аналитическом объекте. Но эта конструкция никогда не бывает свободной. Если она не может претендовать на объективность, она может претендовать на гомологичную связь с тем, что ускользнуло от нашего понимания в настоящем или прошлом. Она является своим собственным дублем.
Эта концепция, вводящая понятие дублей (Green, 1970), поможет нам выпутаться из «разговора глухих» между теми, кто считает, что регрессия при лечении в своих крайних формах является воспроизведением начального младенческого состояния и что интерпретация - это квазиобъективное воспроизведение прошлого (нацелена ли она на события или на внутренние процессы), и теми, кто скептически относятся к возможности достижения подобных состояний или возможности объективных реконструкций. В действительности регрессия при лечении всегда метафорична. Это миниатюрная модифицированная модель младенческого состояния, но она связана с этим состоянием отношениями подобия - так же, как и интерпретация, проясняющая его смысл, но оставшаяся бы неэффективной, если бы не существовало отношений соответствия. Мне кажется, что основная функция всех этих неоднократно порицавшихся вариантов классического анализа заключалась только в том, чтобы, экспериментируя с аналитическим сеттингом и делая его более гибким, искать и сохранять минимальные условия символизации. В каждой работе о символизации в психотических или препсихотических структурах говорится одно и то же, но в разных терминах. Пациент уравнивает, но не создает символов (символическое уравнение - H. Segal, 1967). Он создает представление о другом по образу самого себя (проективное удвоение - Marty et al., 1963). Это также напоминает кохутовское описание (1971) зеркального переноса. Аналитик не репрезентирует для пациента его мать, он и есть его мать (Winnicott, 1955). Отсутствует понятие «как если бы» (Little, 1958). Можно также вспомнить понятие «прямого отреагирования» (de M»Uzan, 1968). Из этого можно сделать вывод, что все дело во врожденной схеме дуальных отношений. С другой стороны, мы не должны забывать об акценте, который ставится на недостаточную дифференциацию между собственным «я» и объектом, на размывание границ вплоть до нарциссического слияния. Парадокс в том, что такая ситуация лишь изредка приводит к абсолютно хаотическому и дезорганизованному состоянию и что фигуры дуальной схемы очень быстро возникают из недифференцированного целого. К дуальным отношениям обмена с объектом можно добавить то, что я называю дуальными отношениями внутри самого «я» - механизмы двойной реверсии (поворот против себя, реверсия), которые, как говорил Фрейд, присутствовали до вытеснения (Green, 1967b). Таким образом, с идеей зеркала в обмене с репрезентантом внешнего объекта может сочетаться идея внутреннего отзеркаливания собственного «я». Все это показывает, что способность к отражению - фундаментальное свойство человека. Так можно объяснить потребность в объекте как в образе «подобного» (см. статью Винникотта об «отзеркаливающей роли матери», 1967). По большей части символические структуры, по-видимому, врожденные. Однако исследования в области общения животных, а также психологические или психоаналитические исследования показывают, что эти структуры требуют вмешательства объекта, чтобы продвинуться от потенциального к реальному в данный момент времени.
Не оспаривая истинности клинических описаний, мы должны теперь рассмотреть дуальность в ее контексте. Даже совершенно дезорганизованная вербализация создает дистанцию между «я» и объектом. Но мы можем уже предположить, что с момента возникновения того, что Винникотт называет субъективным объектом, очерчивается очень примитивная триангуляция между «я» и объектом. Если мы обратимся к объекту, т.е. матери, мы должны допустить, что также присутствует и третье лицо. Когда Винникотт говорит нам, что «нет такой вещи, как младенец», имея в виду пару, состоящую из младенца и материнской заботы, я испытываю искушение сказать, что нет такой пары, как «мать и младенец» без отца. Ребенок - знак союза между матерью и отцом. Вся проблема проистекает из того факта, что, даже в самых смелых воображаемых конструкциях, мы через соприкосновение с реальностью стремимся понять, что происходит в сознании пациента, когда он один (т.е. со своей матерью), не думая о том, что происходит между ними. А между ними мы обнаруживаем отца, который всегда присутствует где-то в бессознательном матери (Lacan, 1966), даже если его ненавидят или он изгнан. Да, отец отсутствует в этих отношениях. Но сказать, что он отсутствует, значит сказать, что он не является ни присутствующим, ни несуществующим - т.е. что он обладает потенциальным присутствием. Отсутствие - это промежуточное положение между присутствием (вплоть до вторжения) и потерей (вплоть до аннигиляции). Аналитики все больше склоняются к той мысли, что, когда они вербализуют переживание через сообщение, они не просто проясняют сообщение, но вновь вводят в этот момент потенциальное присутствие отца - не через явную отсылку к нему, а посредством введения третьего элемента в коммуникативную дуальность.
Когда мы используем метафору зеркала (первым ее использовал Фрейд) - я допускаю, что это может быть искажающее зеркало - мы всегда забываем о том, что образование пары «образ-объект» зависит от наличия третьего объекта, т.е. самого зеркала. Сходным образом, когда мы говорим о дуальных отношениях в анализе, мы забываем о третьем элементе, представленном сеттингом, его гомологом. Говорят, что сеттинг репрезентирует холдинг и материнскую заботу. Но сама «работа зеркала», столь очевидная при анализе трудных случаев, оказывается в небрежении. Можно было бы сказать, что физическую деятельность материнской заботы способен заместить - метафорически - только психический двойник этой деятельности, которая сводится сеттингом к молчанию. Только таким образом ситуация может развиваться в направлении символизации. Психическое функционирование аналитика сравнимо с фантазийной деятельностью материнской задумчивости (Bion, 1962), которая вне всяких сомнений является неотъемлемой частью холдинга и материнской заботы. Сталкиваясь с диффузной разрядкой пациента, расширяющего и захватывающего пространство, аналитик реагирует, используя способность к эмпатии, с помощью механизма проработки, которая предполагает торможение цели влечения. Уменьшение торможения цели у пациента препятствует удерживанию опыта в памяти; это удерживание необходимо для образования следов в памяти, от которых зависит деятельность запоминания. Это тем более так, потому что разрядка пропитана деструктивными элементами, противостоящими созданию связей; их атаки направлены на мыслительные процессы. Все происходит так, как будто бы это аналитик двигался к регистрации опыта, которого могло бы не быть. Из этого вытекает идея, что эти пациенты обнаруживают, что они более плотно захвачены текущими конфликтами (Giovacchini, 1973). Реакция контрпереноса - та, что могла бы быть у объекта.
Влечения стремятся к удовлетворению с помощью объекта, но там, где это невозможно из-за создаваемого сеттингом торможения цели, остается путь проработки и вербализации. Почему же у пациента возникает эта нехватка уточнения, проработки, почему ее должен вносить аналитик? При нормальном психическом функционировании каждый из компонентов, используемых психическим аппаратом, обладает особой функцией и направлением (от влечения до вербализации), благодаря чему между различными функциями формируются корреспондирующие отношения (например, между идентичностью восприятия и идентичностью мышления). Все психическое функционирование построено на ряде связей, которые соединяют один элемент с другим. Простейший пример - соотношение сновидения и фантазии. Более сложные связи ведут к сравнению первичного и вторичного процессов. Эти процессы связаны отношениями не только противостояния, но и сотрудничества, ведь в противном случае мы не смогли бы перейти от одной системы к другой и перевести, например, явное содержание в латентное. Но мы знаем, что это становится возможным только благодаря интенсивной работе. Работа сновидения отражает работу анализа сновидения. Все это подразумевает, что эти связи могут быть установлены на основе функционального различения: сон следует считать сном, мышление - мышлением и т.д. Но в то же время сон - не просто сон, мышление - не просто мышление и т.д. Мы вновь обнаруживаем двойственную природу связи-воссоединения и/или сепарации. Это то, что называется внутренними связями символизации. Они связывают различные элементы одной и той же структуры (в снах, фантазиях, мыслях и т.д.) и структур, одновременно обеспечивая связность и прерывность психической жизни. В аналитической работе это подразумевает, со стороны пациента, что он принимает аналитика за того, кем тот является, и в то же время за того, кем тот не является, но при этом в состоянии поддерживать это различие. И, наоборот, это подразумевает, что аналитик может занимать такую же позицию по отношению к пациенту.
В структурах, о которых мы говорим, очень трудно установить внутренние связи символизации, потому что различные типы используются как «вещи» (Bion, 1962, 1963). Сны, не образуя объекта психической реальности, привязаны к телу (Pontalis, 1974); очерчивая границы внутреннего личного пространства (Khan, 1972c), они обладают эвакуирующей функцией. Фантазии репрезентируют компульсивную деятельность, цель которой - заполнять пустоту (Winnicott, 1971), или принимаются за реальные факты (Bion, 1963). У аффектов репрезентативная функция (Green, 1973), а действия больше не обладают силой изменять реальность. В лучшем случае они обеспечивают коммуникативную функцию, но чаще служат для того, чтобы освобождать психику от непереносимо большого количества стимулов. Психическое функционирование в целом подчинено модели действия, возникшей вследствие невозможности редуцировать огромное количество аффектов; мыслительной проработки, которая могла бы повлиять на них, либо не было вовсе, либо это было жалкое ее подобие, карикатура (Segal, 1972). Бион (1963) далеко продвинулся в изучении внутреннего ментального функционирования. Экономическая точка зрения здесь очень важна, при условии, что мы не будем ограничиваться количественными связями и включим роль объекта в способность трансформироваться. Функция сеттинга заключается также и в том, чтобы посредством психического аппарата аналитика переносить и редуцировать крайнее напряжение, чтобы в конце концов приблизиться к объектам мышления, способным занять потенциальное пространство.
Нарциссизм и объектные отношения
Мы сейчас сталкиваемся с третьей топографической моделью, разработанной в аналитическом пространстве в терминах «я» и объекта. Но в то время как понятие объекта принадлежит старейшей психоаналитической традиции, термин собственное «я», самость - недавнего происхождения и остается неточным понятием, которое используется в самых разных смыслах (Hartmann, 1950; Jacoson, 1964; Winnicott, 1960a; Lichtenstein, 1965). Возрождение интереса к нарциссизму, отошедшему на второй план, когда стали изучаться объектные отношения, показывает, как трудно заниматься серьезными исследованиями такого рода, если не чувствуешь потребности в дополняющей точке зрения. Так появилось понятие самости. Однако любые серьезные рассуждения на эту тему должны затрагивать проблему первичного нарциссизма. Бален полностью опровергает его в пользу первичной любви; это опровержение, несмотря на убедительные аргументы, не помешало другим авторам защищать его автономию (Grunberger, 1971; Kohut, 1971; Lichtenstein, 1964). Розенфельд (1971b) связал его с инстинктом смерти, но подчинил объектным отношениям.
Неопределенность представлений об этом предмете восходит еще к Фрейду, который, введя понятие нарциссизма в свою теорию, быстро потерял к нему интерес и переключился на инстинкт смерти - идею, вызвавшую, как мы знаем, сопротивление у некоторых аналитиков. Кляйнианская школа, усвоившая точку зрения Фрейда, как мне кажется, усилила путаницу, смешав инстинкт смерти с агрессией, которая изначально проецировалась на объект. Даже если объект внутренний, агрессия направлена центробежно.
Возрождение понятия нарциссизма не ограничивается открытыми ссылками на него. Постоянно усиливается стремление к десексуализации аналитического поля, как если бы мы все время исподтишка возвращались к ограниченной концепции сексуальности. С другой стороны, развивались идеи, связанные с центральным нелибидинозным эго (Fairbairn, 1952) или с состоянием, в котором отрицаются все инстинктивные свойства (Винникотт и его ученики). На мой взгляд, все дело лишь в проблеме первичного нарциссизма - Винникот это все-таки заметил (1971), но не стал уточнять. Первичный нарциссизм - предмет противоречивых определений в работах Фрейда. В одних случаях он под этим имеет в виду объединение аутоэротических влечений, способствующих ощущению единства личности; в других - подразумевает изначальный катексис недифференцированного эго, где речь о единстве уже не идет. Другие авторы опираются то на первое определение, то на второе. В отличие от Кохута, я полагаю, что на примитивную нарциссическую природу, конечно, указывает направление катексиса, а качество катексиса (грандиозное «я», зеркальный перенос и идеализация объекта), которое в итоге заключает объект в форму «сэлф-объекта», вторично. Эти аспекты имеют отношение к нарциссизму «объединения», а не к первичному нарциссизму в строгом смысле.
Lewin (1954) напоминает нам, что желание заснуть, т.е. достичь как можно более полного состояния нарциссической регрессии, преобладает в аналитической ситуации, подобно тому, как достижение этого состояния является конечным желанием в сновидениях. Нарциссизм сна отличается от нарциссизма сновидений. Существенно, что описанная Lewin оральная триада состоит из двойных отношений (напр., есть - быть съеденным) и стремится к нулю (засыпанию). Винникотт, описывая ложную самость (которую также можно рассматривать как дубль, поскольку она связана с образованием на периферии самости образа себя, который приспосабливается к желаниям матери), приходит в своей примечательной статье к выводу, что истинная самость безмолвна и изолирована в постоянном состоянии не-коммуникации. Это подразумевает сам заголовок статьи «Communicating and Non- Communicating Leading to the Study of Certain Opposites» (1936а). Здесь снова, похоже, построение оппозиций связано с состоянием не-коммуникации. Для Винникотта это отсутствие коммуникации ни в коем случае не является патологическим, поскольку оно позволяет оберегать самое существенное в самости - то, что не подлежит коммуникации, и к чему аналитик должен научиться относиться с уважением. Но, похоже, в конце работы Винникотт идет еще дальше, по ту сторону оберегающего пространства, где укрываются субъективные объекты (см. его приложение 1971 года к статье о переходных объектах; Winnicott, 1974), формулируя проблему еще более радикальным образом - признавая роль и значение пустоты. Например: «Пустота - это предпосылка собирания» и «можно сказать, что существование может начаться только из не-существования» (Winnicott, 1974). Все это заставляет нас пересмотреть Фрейдову метапсихологическую гипотезу первичного абсолютного нарциссизма: дело тут скорее в стремлении как можно ближе подойти к нулевой степени возбуждения, а не в идее единства. Клиническая практика все больше нас в этом убеждает, и с технической точки зрения такой автор, как Бион - который, тем не менее, кляйнианец - рекомендует аналитику добиваться состояния, лишенного воспоминаний или желаний, состояния непознаваемого, которое вместе с тем является точкой отсчета для всякого знания (1970). Такая концепция нарциссизма, хотя ее и придерживается меньшинство аналитиков, всегда была объектом плодотворных размышлений, но сосредотачивалась в основном на положительных аспектах нарциссизма, принимая в качестве модели состояние насыщения, которым сопровождается удовлетворение и которое восстанавливает состояние покоя. Ее негативный двойник всегда встречал большое сопротивление в том, что касалось теоретических формулировок. Однако, большинство авторов признают, что защитные маневры пациентов с пограничными состояниями и психозами направлены большей частью на борьбу не только со страхами первичного нарциссизма и связанной с ними угрозой аннигиляции, но также против столкновения с пустотой, которая, возможно, является самым непереносимым состоянием, вызывающим у пациентов страх: оставленные им рубцы вызывают состояние вечного неудовлетворения.
По моему опыту рецидивы, всплески агрессии и периодические коллапсы после прогресса указывают на потребность любой ценой сохранить отношения с плохим внутренним объектом. Когда плохой объект теряет свою силу, единственным выходом будет, как кажется, попытка снова его вызвать, воскресить в виде другого плохого объекта: они похожи с первым как братья, и пациент может идентифицироваться с этим вторым объектом. Дело здесь не столько в неустранимости плохого объекта или в желании быть уверенным, что ты его таким образом контролируешь, сколько в страхе, что исчезновение плохого объекта заставит пациента столкнуться с ужасами пустоты, при том, что не будет никакой возможности когда-либо заместить его хорошим объектом, даже если этот последний и окажется в пределах досягаемости. Объект плох, но он хорош тем, что существует, даже если он и не существует в качестве хорошего объекта. Цикл уничтожения и повторного возникновения напоминает многоглавую гидру и, похоже, повторяет модель теории (в том смысле, в каком этот термин употреблялся раньше) создания объекта, которую, как говорил Фрейд, можно узнать в ненависти. Но это компульсивное повторение происходит потому, что здесь пустота может быть катектирована только негативно. Отказ от объекта ведет не к катексису личного пространства, а к мучительному стремлению к ничто, которое затягивает пациента в бездонную яму и приводит его в конце концов к негативным галлюцинациям о самом себе. Стремление к ничто - это нечто куда большее, чем агрессия, которая представляет собой лишь одно из его следствий. Это истинное значение инстинкта смерти. Отсутствие матери служит ему, но создает ли оно его? Можно спросить, почему нам так нужна забота, чтобы предотвратить его появление. Поскольку объект не обеспечил чего-то, остается только одно - полет в ничто, как если бы состояние покоя и умиротворенности, которым сопровождается удовлетворение, обретается с помощью чего-то противоположного удовлетворению - не-существования какой бы то ни было надежды на удовлетворение. Именно здесь мы находим выход из отчаяния, когда прекращается борьба. Даже те авторы, которые особенно подчеркивают преобладание агрессии, вынуждены были признать его существование (Stone, 1971). Мы обнаруживаем его следы в психотическом ядре (чистый психоз), а также в том, что недавно было названо «чистой самостью» (Giovacchini, 1972b).
Таким образом, мы должны соединить два следствия первичного нарциссизма: позитивный результат регрессии после удовлетворения и негативный результат - создание подобного смерти покоя из пустоты и ничто.
В другой работе я выдвинул теорию первичного нарциссизма (Green, 1967b) как структуры, а не просто состояния, где наряду с положительным аспектом объектных отношений (видимость и слышимость), неважно, хорошие они или плохие, проявляется и негативный аспект (невидимость, безмолвие). Негативный аспект создается интроекцией, возникающей тогда же, когда материнская забота создает объектные отношения. Он соотносится со структурной схемой заботы посредством негативных галлюцинаций о матери во время ее отсутствия. Это лицевая сторона того, чьей изнанкой является галлюцинаторная реализация желания. Пространство, граничащее таким образом с пространством объектных отношений - это нейтральное пространство, которое отчасти может насыщаться пространством объектных отношений, но отличается от него. Оно создает основу для идентификации, а отношения поддерживают непрерывность ощущения существования (образуя личное тайное пространство). С другой стороны, оно может опустошаться из-за стремления к не-существованию, посредством выражения идеала, самодостаточности, которая постепенно сводится к самоаннигиляции (Green, 1967b, 1969a). Но не следует ограничиваться терминами пространства. Радикальный катексис также влияет и на время, подвешивая переживание (что очень далеко от вытеснения) и создавая «мертвое время», в котором не может быть символизации (см. «лишение права выкупа» у Лакана, 1966).
Клиническое приложение этой теории можно видеть в течение анализа, именно это больше всего стимулирует воображение аналитика, поскольку избыток проекций часто оказывает шокирующий эффект. Но что-то от этого остается даже в самом классическом анализе. Это заставляет нас пересмотреть вопрос молчания при лечении. Недостаточно сказать, что, помимо того, что он что-то сообщает, пациент также сохраняет внутри себя безмолвную зону. Нужно добавить, что анализ развивается так, как если бы пациент делегировал эту безмолвную функцию аналитику, его молчанию. Однако, как мы знаем, в некоторых пограничных состояниях (situations limites ) молчание может переживаться как молчание смерти. Это сталкивает нас с техническими трудностями - что выбрать? На одном полюсе - техника, предложенная Балинтом: попытаться как можно меньше организовывать (структурировать) переживание, чтобы оно развивалось под благожелательным покровительством аналитика с его чутким ухом, чтобы подбодрить «новичка». На другом полюсе кляйнианская техника: наоборот, как можно больше организовывать (структурировать) переживание посредством интерпретативной вербализации. Но разве нет в этом противоречия: утверждать, что объектные отношения в психотической части личности подверглись преждевременному образованию, и в то же время реагировать на это интерпретациями, которые грозят воспроизвести эту преждевременность? Разве это не опасно - переполнять психическое пространство вместо того, чтобы помочь сформировать позитивный катексис пустого пространства? Что же структурируется таким образом? Скелет переживания или его плоть, которая необходима пациенту для жизни? Со всеми этими оговорками я должен признать сложность тех случаев, за которые берутся кляйнианцы - это вызывает уважение. Между двумя крайностями находится техника Винникотта, которая отводит сеттингу надлежащее место, рекомендует принять эти несформированные состояния и занять позицию не-вторжения. Через вербализацию он восполняет нехватку материнской заботы, чтобы поощрить возникновение отношений с эго и с объектом, пока не наступит момент, когда аналитик сможет стать переходным объектом, а аналитическое пространство - потенциальным пространством игры и полем иллюзии. Техника Винникота мне очень близка, я стремлюсь к ней, хоть и не в состоянии ею овладеть - все это происходит потому, что, несмотря на риск воспитать зависимость, эта техника, как мне кажется, единственная отводит понятию отсутствия его законное место. Дилемма, которая противопоставляет навязчивое присутствие - ведущее к бреду (dйlire ) - пустоте негативного нарциссизма, ведущей к психической смерти, модифицируется с помощью превращения бреда в игру, а смерти в отсутствие, через создание игрового фона потенциального пространства. Это заставляет нас принять в расчет понятие дистанции (Bouvet, 1958). Отсутствие - это потенциальное присутствие, условие возможности не только переходных объектов, но и потенциальных объектов, необходимых для формирования мышления (см. «не-грудь» Биона, 1963, 1970). Эти объекты не присутствуют, они неосязаемы - это объекты отношений. Возможно, единственная цель анализа - способность пациента быть одному (но в присутствии аналитика), но в одиночестве, наполненном игрой (Winnicott, 1958). Полагать, что все дело в превращении первичного нарциссизма во вторичный - значит проявлять либо излишнюю ригидность, либо излишний идеализм. Точнее было бы сказать, что это вопрос инициирования игры между первичным и вторичным процессами, с помощью процессов, которые я предлагаю называть терциарными (Green, 1972): они существуют только в качестве процессов отношений.
Заключительные замечания
Сделать заключение значит не закрыть работу, а открыть дискуссию и передать слово другим. Выход из кризиса, в котором находится психоанализ, не находится исключительно внутри самого психоанализа. Но в распоряжении анализа есть некоторые карты, расклад которых определит его судьбу. Его будущее зависит от того, каким образом он сумеет, сохранив наследие Фрейда, объединить его с более поздними достижениями. Для Фрейда не существовало проблемы предшествующего знания. Несомненно, для изобретения психоанализа необходим был его творческий гений. Работы Фрейда стали основой наших знаний. Но аналитик не может практиковать психоанализ и поддерживать в нем жизнь, если он не будет приумножать знания. Он должен попытаться быть креативным в пределах своих способностей. Возможно, именно поэтому некоторые из нас расширяют границы того, что подлежит анализу. Примечательно, что попытки анализировать эти состояния увенчались расцветом теорий воображения - для некоторых этого слишком много, т.е. много теорий и слишком много воображения. Все эти теории пытаются сконструировать предысторию там, где нет и намека на историю. Прежде всего это показывает, что мы не можем обойтись без мифического происхождения, подобно тому, как ребенок создает теории, и даже романы, о своем рождении и младенчестве. Несомненно, наша роль не в том, чтобы воображать, а в том, чтобы объяснять и преобразовывать. Однако Фрейд нашел в себе мужество написать: «без метапсихологических спекуляций и теоретизирования - я чуть было не сказал: «фантазирования» - мы не сможем сделать еще один шаг вперед» (1973a, p. 225). Мы не можем согласиться, что наши теории - фантазии. Лучшим решением будет согласиться, что они представляют собой не выражение научной истины, а приближение к ней, ее аналог. Тогда не будет вреда в конструировании мифа о происхождении, при условии, что мы знаем - это всего лишь миф.
За последние двадцать лет психоаналитическая теория была свидетелем значительного развития генетической точки зрения (см. обсуждение ее в Lebovici & Soul, 1970). Я не собираюсь пускаться в критику наших психоаналитических концепций развития, многие из которых, на мой взгляд, усвоили непсихоаналитическое понятие времени, но мне кажется, что пришло время уделить большее внимание проблемам коммуникации, не ограничивая ее вербальной коммуникацией, но учитывая также ее зародышевые формы. Это заставляет меня подчеркивать роль символизации - объекта, аналитического сеттинга, а также не-коммуникации. Возможно, это позволит нам также затронуть проблему коммуникации между аналитиками. Непрофессионалы часто поражаются тому, что люди, чья профессия - слушать пациентов, так плохо умеют прислушиваться друг к другу. Я надеюсь, что эта работа, в которой показано, что все мы сталкиваемся со схожими проблемами, внесет свой вклад в умение слушать другого.
Андре Грин: комплекс мёртвой матери
Статья Андре Грина первоначально была представлена в виде доклада в Парижском психоаналитическом обществе 20 мая 1980 года. Взгляды, которые он пытается изложить, относятся к идеям «белого» психоза и «белого» горя, а именно - к клиническому и метапсихологическому значению состояний пустоты.
Американский психоаналитик Хайнц Кохут первым высказал мысль о том, что НЕСЛУЧИВШЕЕСЯ событие может повлиять на психическое развитие. Так, мать, которая НЕ ВОСХИЩАЛАСЬ первыми рисунками ребёнка, а равнодушно просматривала их, ответственна за то, что ребёнок не пережил удовольствия от демонстрации себя другим (архаичные эксгибиционистские потребности, говоря психоаналитическим языком). Став взрослым, такой человек может чрезмерно стремиться показывать свои достижения, неуёмно хвалиться сделанными фотографиями, жадно ждать восхищённых возгласов по поводу обновы (машины, шубы, квартиры). Когда отклик не соответствует его ожиданиям, он страдает.
Андре Грин пишет о матери, погружённой в себя, о матери, которая рядом с ребёнком физически, но не эмоционально. Язык статьи достаточно сложный и перенасыщен психоаналитической терминологией, поэтому мы предлагаем читателю не цитаты из неё, а конспект.
Цитируем по книге:
Грин Андре. Мёртвая мать(с. 333-361) // Французская психоаналитическая школа. Под ред. А. Жибо, А.В. Россохина.- СПб: Питер, 2005. - 576 с.
Заголовок данного очерка - мёртвая мать. Однако, чтобы избежать недоразумений, я сразу уточню, что не рассматриваю психологические последствия реальной смерти матери. Мёртвая мать здесь - это мать, которая остаётся в живых, но в глазах маленького ребёнка, о котором она заботится, она, так сказать, мертва психически, потому что по той или иной причине впала в депрессию.
Реальная смерть матери, особенно если эта смерть является следствием суицида, наносит тяжёлый ущерб ребёнку, которого она оставляет после себя. Реальность потери, её окончательный и необратимый характер создают психологические конфликты, которые принято называть проблематикой горя. Я также не буду говорить о депрессии и пациентах, который вытесняют злость и ненависть по отношению к матери.
Для тех людей, о которых я буду сегодня говорить, не характерны депрессивные симптомы. Однако мы знаем, что игнорирующий свою депрессию субъект, вероятно, более нарушен, чем тот, кто переживает депрессию от случая к случаю.
Основываясьна интерпретации фройдовской мысли, психоаналитическая теория отвела главное место концепции мёртвого отца. Эдипов комплекс это не просто стадия развития либидо. Это теоретическая позиция, из которой проистекает целый концептуальный ансамбль: Сверх-Я в классической теории Фрейда, Закон и Символика в лакановской мысли. Кастрация и сублимация, как судьба влечений, объясняют душевную патологию. Вполне обоснованно считается, что кастрационная тревога структурирует весь ансамбль тревог, связанных с «маленькой вещицей, отделённой от тела», идёт ли речь о пенисе, о фекалиях или о ребёнке. Этот класс тревог объединяется постоянным упоминанием кастрации, членовредительства, ассоциирующегося с кровопролитием. Я называю такую тревогу «красной».
Напротив, когда речь заходит о концепции потери материнской груди или потери матери, об угрозе лишиться её покровительства и защиты, контекст никогда не бывает кровавым. Она - траурных цветов, это чёрная или белая тревога. Моя гипотеза состоит в том, что мрачная чернота депрессии, которую мы можем законно отнести за счёт ненависти, обнаруживающейся в психоанализе депрессивных больных, является следствием «белой» тревоги пустоты.
Мёртвую мать, в отличие от отца, никто не рассматривал как объяснительную концепцию или синдромальный диагноз. Углубляясь в проблемы, связанные с мёртвой матерью, я отношусь к ней как к метафоре.
Комплекс мёртвой матери
Основные жалобы и симптомы, с которыми пациент обращается к психоаналитику, не носят депрессивного характера. Налицо ощущение бессилия: бессилия выйти из конфликтной ситуации, бессилия любить, воспользоваться своими дарованиями, преумножать свои достижения или, если таковые имели место, глубокая неудовлетворённость их результатами. Когда же анализ начинается, перенос открывает инфантильную (детскую) депрессию, характерные черты которой я считаю полезным уточнить.Основная черта этой депрессии в том, что она развивается в присутствии объекта, погружённого в своё горе . Мать, по той или иной причине, впала в депрессию. Разумеется, среди главных причин такой материнской депрессии мы находим потерю любимого объекта: ребёнка, родственника, близкого друга или любого другого объекта, сильно любимого матерью. Но речь также может идти о депрессии разочарования : превратности судьбы в собственной семье или в семье родителей, любовная связь отца, бросающего мать, унижение и т.п. В любом случае, на первом плане стоят грусть матери и умешьшение её интереса к ребёнку . Важно подчеркнуть, что самый тяжёлый случай - это смерть другого ребёнка в раннем возрасте . Эта причина полностью ускользает от ребёнка, потому что ему не хватает данных, чтобы об этой причине узнать. Эта причина держится в тайне, например, выкидыш у матери.
Ребёнок чувствовал себя любимым, несмотря на все непредвиденные случайности, которых не исключают даже самые идеальные отношения. Горе матери разрушает его счастье. Ничто ведь не предвещало, что любовь будет утрачена так враз. Не нужно долго объяснять, какую нарциссическую травму представляет собой такая перемена. Травма эта состоит в преждевременном разочаровании, в потере любви, потере смысла, поскольку младенец не находит никакого объяснения, позволяющего понять произошедшее. Понятно, что если ребёнок переживает себя как центр материнской вселенной, он толкует это разочарованиекак последствие СВОИХ влечений к объекту. Особенно неблагоприятно, если комплекс мёртвой матери развивается в момент открытия ребёнком существования третьего, отца, и он думает, что мать разлюбила его из-за отца. Это может спровоцировать бурную любовь к отцу, питаемую надеждой на спасение от конфликта и удаление от матери. Как бы то ни было, триангуляция (отношения в эдиповом треугольнике) в этих случаях складывается преждевременно и неудачно.
В реальности, однако, отец чаще всего не откликается на беспомощность ребёнка. Мать поглощена своим горем, что даёт ему почувствовать всю меру его бессилия. Мать продолжает любить ребёнка и продолжает им заниматься, но всё-таки, как говорится, «сердце к нему не лежит».
Ребёнок совершает напрасные попытки восстановить отношения, и борется с тревогой разными активными средствами, такими как ажитация , искусственная весёлость , бессонница или ночные страхи .
После того как гиперактивность и боязливость не смогли вернуть ребёнку любящее и заботливое отношение матери, Я задействует серию защит другого рода. Это дезинвестиция материнского объекта и несознательная идентификация с мёртвой матерью. Аффективная дезинвестиция - это психическое убийство объекта, совершаемое без ненависти. Понятно, что материнская грусть запрещает всякое возникновение и малой доли ненависти. Злость ребёнка способна нанести матери ущерб, и он не злится, он перестаёт её чувствовать. Мать, образ которой сын или дочь хранит в душе, как бы «отключается» от эмоциональной жизни ребёнка. Единственным средством восстановления близости с матерью становится идентификация (отождествление) с ней. Это позволяет ребёнку заместить невозможное обладание объектом: он становится им самим. Идентификация заведомо несознательна. В дальнейших отношениях с другими людьми субъект, став жертвой навязчивого повторения, будет повторять эту защиту. Любой объект, рискующий его разочаровать, он будет немедленно дезинвестировать (испытывать равнодушие к значимому человеку). Это останется для него полностью несознательным.
Потеря смысла, переживаемая ребёнком возле грустной матери, толкает его на поиски козла отпущения, ответственного за мрачное настроение матери. На эту роль назначается отец. Неизвестный объект горя и отец тогда сгущаются, формируя у ребёнка ранний Эдипов комплекс. Ситуация, связанная с потерей смысла, влечёт за собой открытие второго фронта защит.
Это развитие вторичной ненависти, окрашенной маниакальным садизмом анальных позиций, где речь идёт о том, чтобы властвовать над объектом, осквернять его, мстить ему и т.д. Другая защита состоит в ауто-эротическом возбуждении . Оно состоит в поиске чистого чувственного удовольствия, без нежности, без чувств к объекту (другому человеку). Имеет место преждевременная диссоциация между телом и душой, между чувственностью и нежностью, и блокада любви. Другой человек нужен ему для того, чтобы запустить изолированное наслаждение одной или нескольких эрогенных зон, а не для переживания слияния в чувстве любви.
Наконец, и самое главное, поиск потерянного смысла запускает преждевременное развитие фантазии и интеллекта . Ребёнок пережил жестокий опыт своей зависимости от перемен настроения матери. Отныне он посвятит свои усилия угадыванию или предвосхищению.
Художественное творчество и интеллектуальное богатство могут быть попытками совладать с травматической ситуацией. Эта сублимация оставляет его уязвимым в главном пункте - его любовной жизни. В этой области живёт такая психическая боль, которая парализует субъекта и блокирует его способность к достижениям. Всякая попытка влюбиться разрушает его. Отношения с другим человеком оборачиваются неизбежным разочарованием и возвращают к знакомому чувству неудачи и бессилия. Это переживается пациентом как неспособность поддерживать длительные объектные отношения, выдерживать постепенное нарастание глубокой личной вовлечённости, заботы о другом. У пациента появляется чувство, что над ним тяготеет проклятье, проклятье мёртвой матери, которая никак не умрёт и держит его в плену. Боль, одна только душевная боль, сопровождает его отношения с другими людьми. В психической боли невозможно ненавидеть, невозможно любить, невозможно наслаждаться, даже мазохистски. Можно только испытывать чувство бессилия.
Работая с такими пациентами, я понял, что оставался глухим к некоторым особенностям их речи. За вечными жалобами на злобность матери, на её непонимание или суровость ясно угадывалось защитное значение этих разговоров от сильной гомосексуальности. Женской гомосексуальности у обоих полов, поскольку у мальчика так выражается женская часть личности, часто - в поисках отцовской компенсации. Моя глухота касалась того факта, что за жалобами на действия матери вырисовывалась тень её отсутствия. Жалобы относились к матери, поглощённой самой собой, недоступной, неотзывчивой, но всегда грустной. Она оставалась безразличной, даже когда упрекала ребёнка. Её взор, тон её голоса, её запах, память о её ласке - всё похоронено, на месте матери во внутренней реальности ребёнка зияет дыра.
Ребёнок идентифицируется не с матерью, а с дырой. Как только для заполнения этой пустоты избирается новый объект, внезапно появляется галлюцинация, аффективный след мёртвой матери.
Этот тип пациентов создаёт серьёзные технические проблемы, о которых я не стану здесь распространяться. Сознательно человек считает, что у него - нетронутые запасы любви, доступные для новой любви, как только представится случай. На самом деле, любовь навсегда осталась в залоге у мёртвой матери.
В ходе психоанализа защитная сексуализация (ранний онанизм или другие способы получения чувственного наслаждения), всегда включающая в себя прегенитальное удовлетворение и замечательные сексуальные достижения, резко спадает. Пациент понимает, что его сексуальная жизнь сводится практически к нулю. По его мнению, речь не идёт о потере сексуального аппетита: просто никто больше ему не желанен. Обильная, разбросанная, разнообразная, мимолётная сексуальная жизнь не приносит больше никакого удовлетворения.
Остановленные в своей способности любить, субъекты, находящиеся под владычеством мёртвой матери, не могут более стремиться ни к чему, кроме автономии. Делиться с кем бы то ни было им запрещено. Сначала от одиночества бежали, теперь его ищут. Субъект вьёт себе гнездо. Он становится своей собственной матерью, но остаётся пленником своей стратегии выживания.
Это холодное ядро жжёт как лёд и как лёд же анестезирует. Это едва ли только метафоры. Такие пациенты жалуются, что им и в зной - холодно. Им холодно под кожей, в костях, они чувствуют как смертельный озноб пронзает их насквозь. Внешне эти люди и в самом деле ведут более или менее удовлетворительную профессиональную жизнь, женятся, заводят детей. На время всё как будто в порядке. Но с годами профессиональная жизнь разочаровывает, а супружеская сопровождается серьёзными нарушениями в области любви, сексуальности и аффективного общения. В это же время родительская функция, наоборот, сверхинвестирована. Впрочем, часто дети любимы при условии достижения ими тех нарциссических целей, которых самим родителям достичь не удалось.
Несмотря на выразительные признания, окрашенные аффектами, часто весьма драматизированными, отношение к аналитику отличается тайной неприязнью. Это оправдывается рационализациями типа: «Ради чего всё это делать?» Вся эта деятельность сопровождается богатством психических представлений и весьма значительным даром к само-истолкованию. Однако способность к интроспекции мало что меняет в его аффективной сфере.Язык пациента отличается ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫМ СТИЛЕМ, который должен тронуть аналитика, призвать его в свидетели. Словно ребёнок, который рассказывал бы матери о своём школьном дне и о тысяче маленьких драм, которые он пережил, чтобы заинтересовать её и сделать её участницей того, что он узнал в её отсутствие.
Можно догадаться, что повествовательный стиль мало ассоциативен. Субъект ускользает от того, чтобы повторно пережить то, о чём он рассказывает, поток слов, если его остановить, повергает его в переживание психической боли и неприкрытого отчаяния.
Основной фантазией такого пациента становится такая: питать мёртвую мать, дабы содержать её в постоянном бальзамировании. То же самое пациент делает с аналитиком: он кормит его анализом не для того, чтобы помочь себе жить вне анализа, но дабы продлить анализ до бесконечности. Пациент проводит свою жизнь, питая свою мёртвую мать, как если бы он был единственным, кто может о ней позаботиться. Хранитель гробницы, единственный обладатель ключа от её склепа, он втайне исполняет свою функцию кормящего родителя. Его узница становится его личной собственностью. Так пациент сам себя лечит.
Здесь возникает парадокс. Мать в горе, или мёртвая мать, какой бы огорчённой она не была, - она здесь. Присутствует мёртвой, но всё-таки присутствует. Субъект может заботиться о ней, пытаться её пробудить, оживить, вылечить. Но если она выздоровеет и пробудится, субъект ещё раз потеряет её, потому что она уйдёт заниматься своими делами или любить других. Так создаётся амбивалентность: мертвая мать, которая всегда присутствует, или живая, которая уходит и возвращается.
* * *
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ УКАЗАНИЕ НА ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Пожалуйста, уважайте закон «Об авторском праве и смежных правах»в редакции Федерального Закона от 20 июля 2004 года №72-ФЗ, который гласит следующее:
«Статья 19.Использование произведения без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения.
Допускается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования:
1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, исследовательских, полемических, критических и информационных целях из правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования;».
Грин Андре. Истерия
Если верно, что психиатрия и психопатология являются итогом длительного исторического развития, то, разумеется, верно также, что каждый из ныне хорошо нам известных синдромов имеет свою особую историю. Несомненно, что среди психопатологических синдромов именно на истерии в наибольшей степени отразилось влияние соответствующих периодов времени. Истерия, существование которой можно проследить до древнейших времен, находится, как утверждают, в состоянии исчезновения. Похоже, что истерия уже миновала пик своего социально-исторически обусловленного развития, который пришелся на времена Шарко и от которого Фрейд сумел извлечь пользу. Некоторые коллеги сегодня придерживаются мнения, что истерия является скорее пережитком, который встречается в так называемых примитивных обществах, пережитком, который порой интегрируется в общественные ритуалы, а иногда объявляются “болезнью”. Но соответствует ли это действительности? Разве в нашем индустриальном обществе нет многочисленных видов истерии, сменивших ее прежние формы проявления? Ведь, если верно то, что наши больницы больше не переполнены пациентами, страдающими истерическими припадками, истерическим параличом или контрактурой, полной потерей памяти и сумеречными состояниями, то верно и то, что все психиатры и психоаналитики как и прежде продолжают говорить о феномене, который объявили навсегда исчезнувшим. “Истерический характер” (Klages 1926) встречается необычайно часто. Психиатры и психоаналитики пытаются разобраться в его структуре, но этого недостаточно, поскольку истерию нельзя уже относить исключительно к сфере медицины, к сфере психиатра или аналитика. Антрополог и социолог также претендуют на то, чтобы исследовать механизмы истерии, так что в игру вступают социально-экономические факторы, роль которых оценивается порой весьма по-разному.
Нашей задачей должно стать изучение истерии с психоаналитических позиций. Поэтому все прочие аспекты мы либо оставим в стороне, либо коснемся их мимоходом там, где это будет уместно. Тем не менее обратим здесь внимание читателя на одну из последних работ в журнале “Контроверзы психиатрии” (1968), в которой подробно рассматривается предмет нашей статьи.
Основные проблемы истерии можно сформулировать сегодня следующим образом:
— Как можно обрисовать истерическую структуру с точки зрения симптомов и характера истерии?
— Следует ли относить истерию исключительно к сфере неврозов?
— Играет ли сексуальность как и прежде решающую роль, которую приписывали ей Фрейд и его предшественники в соответствии с древней традицией?
— Каковы взаимосвязи между истерией и другими психопатологическими синдромами, то есть не только между истерией, психосоматикой и психозом, но и между истерией и различными формами психопатии и токсикомании?
— Каковы связи между истерией индивида, с одной стороны, и социальной организацией (культурой и “антикультурой”) — с другой?
ИСТЕРИЯ: ДО ПСИХОАНАЛИЗА И БЕЗ НЕГО
Современная история истерии
Мы не хотим здесь обсуждать четырехтысячелетнюю историю концепций истерии, начиная с кахунского папируса (1900 г. до н. э.), в котором матка описывается как место локализации болезни, и кончая Международным психоаналитическим конгрессом 1973 года, который поставил на повестку дня вопрос о том, как трактовали эту проблему в эпоху Шарко. Ильза Фейт (Veith 1965) обстоятельно рассмотрела историю связанных с этим идей. Мы считаем уместным заняться первыми смутными началами психоанализа у Пюсегара и Месмера, ибо здесь, как мы можем увидеть, понятие переноса в конечном счете является наследием представлений о животном магнетизме (Neyraut 1973). Поездка Фрейда в Париж общеизвестна (см. также статью Ю. фом Шайдта “Фрейд и его время”). По-видимому, там он нашел то, чего ему недоставало в Вене: учителя, наставника. Но вместо того чтобы останавливаться на бесконечно повторяемом анекдоте о том, как Фрейд сообщает изумленному Шарко о своей твердой уверенности в той роли, которую играют “chose genitale” [половые органы (фр.). — Ред.], и втайне оказывается очень удивлен, когда Шарко принимает к сведению это наблюдение в качестве конфиденциального сообщения, было бы лучше подробнее изучить отчет об исследованиях, проведенных Фрейдом в Париже (Freud 1960). Из этого отчета следует, что Фрейд перенял у Шарко не только его строгую форму наблюдения, но и то, каким образом тот систематизировал полученные результаты в соответствии с инспирированной нозографией. Если Фрейд считается отгадчиком загадок бессознательного, то следует подчеркнуть, что смысл этих загадок следует искать не только во взаимосвязях, которые устанавливаются между симптомом и его значением, но прежде всего во взаимосвязях противоречивых значений, объединенных в когерентную совокупность, причем эта когерентность возникает не столько сама по себе, сколько из отношений с другими взаимосвязями противоречивого значения, как например совокупность неврозов навязчивых состояний.
Беглое ознакомление с историей делает свидетельствует: роль сексуальности признавали еще со времен Древнего Египта. Главное открытие Фрейда заключается в том, что он показал, каким образом устанавливается взаимосвязь между половой сферой и психическим аппаратом и как подобная связь через организм, выступающий в роли посредника, переходит в психическую активность. Ему удалось добраться до самых корней истерии и избавить истерию от таинственной ауры, раскрыв инициирующие механизмы. С другой стороны, он подчеркнул относительность той роли, которую играет сексуальность в этом виде неврозов, показав, что и другие виды неврозов могут быть обусловлены сексуально.
Взаимосвязи между истерией, медициной и возникновением психоанализа не вызывают удивление (Pontalis 1973). На первый взгляд представляется вполне естественным, что именно медик открыл и истерию, сняв с нее покров таинственности, и психоанализ. И все же необходимо в какой-то мере дать волю своей фантазии, чтобы представить себе, как в конце XIX века могли выглядеть отношения, складывавшиеся между врачом и истериком. Посмотрим еще раз на те старинные эстампы, на которых изображено торжественное и полное достоинства появление наставника, окруженного толпой внимающих, ему учеников. До асептической атмосферы, которая царит ныне в отношениях между медиком и больным, еще очень далеко. Наставник в то время был своего рода волшебником, так как именно он обладал знаниями и мог с удивительной точностью предсказывать ход предстоящих событий. Но его слабость таилась как раз в этих знаниях. Подлинным церемониймейстером всего процесса был сам истерик. Он привлекал к себе больше внимания, чем наставник. Своими симптомами он очаровывал так, как это делала Пифия, которая напрямую общалась с богами. Истерик должен был покончить со всесилием волшебника и превратить толкователя в простого свидетеля. Это был врач, представитель класса, господствовавшего над всем остальным обществом, член касты, в которой родились и жили отец, сын и внук. Это был человек, которому истерик бросил вызов: “Скажи мне, отчего я страдаю, и исцели, если можешь!” В Париже, как и в Вене, истерик ставит вопрос о вожделении, а тем самым и о том, как общество, используя все средства, упражняется в лживости и подавлении. Лечение истерии, без сомнения, оправдано тем, что истерик “болен”. Однако сквозь эту болезнь вырисовывается проблематика пола, детства, семьи да и общества в целом. И все же нас не следует понимать превратно: мы никоим образом не отстаиваем здесь идею социогенеза истерии; скорее речь идет о представлении, согласно которому истерия и культура неразрывно связаны между собой. Но эта связь возникает благодаря взаимоотношениям между родителями и ребенком, причем родители принадлежат к определенной культуре и сами являются детьми родителей, на которых лежит отпечаток культуры своего времени (см. статью П. Орбана). Без такой двойственной перспективы у нас нет средства, позволяющего объяснить различную частоту проявления истерии в зависимости от конкретного места и времени. Собственно вопрос не сводится к тому, имеет ли место сегодня истерия или она окончательно исчезла. Он сводится к тому, какую форму принимает истерия в конкретных социально-исторических условиях.
Истерия без бессознательного
Прежде чем обратиться к психоаналитическому исследованию истерии, нам необходимо разобраться в некоторых ипотеках, а именно: 1) организмической, 2) социологической и 3) психологической.
Равным образом нам следует четко понимать, о чем именно мы говорим. Представляется вполне правомерным, когда в “чисто дескриптивном” исследовании (Sutter, Scotto, Blumen 1968) мы даем клиническое описание истерии. В действительности же и дескриптивный стиль, и соответствующая классификация свидетельствуют о методологическом выборе теоретического решения. Подобное описание находится под влиянием медицинской модели, в большей или меньшей степени патологофизиологических ссылок (противопоставления физических и психических феноменов, острых и хронических недугов, причем одни из них связываются с нервной системой жизненных и объектных отношений, тогда как другие приписываются вегетативной нервной системе и т.д.). Психиатр пытается ограничить полиморфизм истерии, сводя ее к параметрическим рамкам физической болезни. Однако сегодня хорошо известно, что истерик, если он симулирует болезнь, не придерживается ее закономерностей, поскольку его тело, которым он с нами конфронтирует, проявляет расстройства в соответствии не со своей органической структурой, а с бредовой структурой, которая присуща больному. Представление же, которое он составляет о своем теле, не обязательно связано с его действительной биологической конституцией. Далекий от того, чтобы отрицать реальность истерии, Фрейд нашел здесь возможность разработать концепцию психической реальности. Как нам известно, другие ученые (например, Ж.-Ф. Ф. Бабински) использовали эту перспективу как повод к тому, чтобы вообще отрицать само существование истерии и усматривать в ней лишь эффект внушения: пифиатизм, который можно подавить внушением, усиленным при необходимости с помощью фарадизации. Возникает вопрос: почему психиатр в своем всемогуществе вдруг начинает выступать в качестве палача? Ведь электричество относится к арсеналу того параллельного правосудия, которое любой ценой желает добиться признания и наказания. Меняются стиль и порядок ведения “охоты за ведьмами”, но сущность ее остается неизменной! Пожалуй, это имеет нечто общее с борьбой за власть между исполненным достоинства наставником и истеричным пациентом. Настало время подробнее рассмотреть упомянутые выше ипотеки. 1. Организмическая ипотека. В недавно вышедшем журнале К. Куперник и Ж. Бордес (Koupernik, Bordes 1968) пришли к заключению, что поиски биологического субстрата истерии кончились неудачей. В этой связи нам следует все же вспомнить концепцию Ван Богерта и работы румынской школы, в которых изучались постэнцефалические поражения экстрапирамидной системы и промежуточного мозга. В результате стали говорить о нарушениях “подкоркового психизма”, объяснявшихся опять же поражениями экстрапирамидной системы и промежуточного мозга, которые в настоящее время локализуют в лимбической системе (Омм). Вместе с тем предпринимались попытки разработать подход, который бы отвечал всем нюансам и руководствуясь которым можно было бы диалектически рассмотреть отношения между врожденным и приобретенным, между патологическими и функциональными феноменами. Электроэнцефалография заменила клинико-анатомические исследования (Донгир, Шагасс) с тем, чтобы лишь натолкнуться на признаки “незрелости”, диффузии и чувствительности, возрастающей главным образом при гипервентиляции. Эти не слишком убедительные результаты позволяют разве только увидеть, что пациенты, страдавшие неврологическими приступами или подвергшиеся нейролептической химиотерапии, могут высказывать жалобы, подобные жалобам при истерии.
Возможность наличия связей между эпилепсией и истерией, а в последнее время между истерией и тетанией вызвала бурные дискуссии. И если время истеро-эпилепсии миновало, то в многочисленных недавних публикациях подчеркивается значение аффективных факторов как в преодолении кризисов и организации образа жизни эпилептиков, так и для улучшения самочувствия после прохождения психотерапии.
Какой же вывод мы можем из этого сделать, прежде чем перейдем к другой ипотеке? С практической точки зрения необходимо постоянно иметь в виду, что истерические жалобы пациента могут представляет собой последствие органического поражения. Поэтому важно иметь информацию о подобных взаимосвязях и отыскивать специфические признаки, свидетельствующие о соответствующем поражении. С теоретической точки зрения следует указать на источник методологических ошибок: если психический синдром в определенном количестве случаев связан с неврологическим синдромом, то медицина имеет полное право прийти к выводу о том, что во всех случаях имело место более или менее доказуемое органическое поражение. Эта точка зрения служит аргументом в пользу отказа от специфической психической структурализации. Органическое должно всегда объяснять психическое, существование которого обманчиво. Решение всегда находится в сфере патофизиологических механизмов. Но в таком случае психопатология была не более чем артефактом, продуктом нашего незнания. И наоборот, достойно внимания незнание “органиком” того, как функционирует психический аппарат в особых случаях. Фактически складывается впечатление, что в случаях, когда нет связей, обусловленных поражением организма, имеет место сильное сопротивление представлению, что сосуществование электроэнцефалографических признаков может быть не причиной, а следствием психической активности. В качестве аргумента, подкрепляющего сказанное, здесь следовало бы привести изменение электроэнцефалограммы эпилептика в результате психотерапевтического лечения.
2. Социологическая ипотека (Ellenberger 1968). Формы проявления эпилепсии изменяются в соответствии с социально-историческими условиями. Эта взаимосвязь становится особенно отчетливой, когда речь идет о военных неврозах. Разумеется, активность этнической группы в одних и тех же условиях может проявляться в большей или меньшей степени. Даже если война не представляет собой принудительной деятельности (болезнь югославских партизан, Parin 1948; см. также статью “Психоанализ в Югославии” в т. II), часто можно наблюдать истерию, особенно когда сексуально фрустрированные мужчины вынуждены считаться с исключительно высокими требованиями идеала коллективного Я. Культурные группы, относящиеся не к западным и не промышленно развитым странам, чрезвычайно восприимчивы к подобным влияниям (индусы-солдаты, пуэрториканский синдром); это же относится к лицам из наиболее ущемленных социальных слоев. Впрочем, в определенных культурных группах мы сталкиваемся с истерией и вне военного времени (истерические припадки у эскимосов, “свадебные психозы” в Северной Африке, Югославии и Северной Каролине).
Из этих наблюдений вытекают многообразные следствия: важность социально-экономических условий (тяжесть условий жизни), травматических истерогенных факторов (опасность для жизни в военное время), культурные модели (вынужденные браки), степени социальной терпимости (симпатия, питаемая к истерикам), предрасполагающих индивидуальных факторов (незрелость, психический инфантилизм и т.д.).
В нашей культурной среде Израэль и Гурфин исследовали окружение 2274 истериков. Они также натолкнулись на определенные различия в распространенности истерии у женщин и мужчин. Однако по-настоящему примечательным в данном исследовании является тот факт, что мужчины реагируют на конфликт “отыгрыванием” (acting out) с употреблением алкоголя. Для типичной семейной ситуации истерики характерны следующие признаки: отсутствие отца; мать, оспаривающая позицию отца, когда она, пылая ненавистью, отвергает свою женскую роль и проявляет желание иметь пенис. Важным фактором является терпимость окружения к истерику. Если прибегают к такому средству, как стационарное лечение, то это означает уменьшение терпимости, то есть нетерпимость. Эта “отсылка” к медику, который в данном случае наделен магической и в то же время не имеющей шансов на успех силой, ставит врача в положение, в котором оказанное ему доверие остается иллюзорным, поскольку оно основано на недоверии, с помощью которого пациент хочет сохранить свою тайну и тем самым обеспечить дальнейшее существование своей истерии.
3. Психологическая ипотека. Со времен Пьера Жане развитие психологии ушло далеко вперед. Пожалуй, можно сказать, что после Шарко развитие психопатологии пошло по двум путям. Один путь, которым последовал Фрейд, должен был открыть эпистемологическую область. Другой путь, идти по которому решился Жане, придерживался рамок психологии сознания. Выявлению психической конституции истерика (Janet 1894) не было уготовано никакого будущего, даже несмотря на те перемены, которые вынуждена была претерпеть психопатология, поскольку психология, прибегая к экспериментально-психологическим тестам, стремилась добиться более точного понимания истерической личности, не переходя, однако, границ, исключающих бессознательное. В этом случае симптом и истерическая личность составляют единое целое.
Истерическая личность стала объектом многочисленных исследований. Наиболее полным из них является исследование Т. Лемперьера (Lemperiere 1968) ". В заслугу Лемперьера следует поставить то, что он (после других — см. например: Ljungberg 1957; Stephens, Kamp 1962; Ziegler, Imboden, Meyer 1960) провел различие между истерической личностью и личностью истериков. Это означает, что между истерической личностью и личностью пациентов, ставших жертвой истерической симптоматики, не существует ни малейшего соответствия. Анализ последней из названных категорий пациентов в действительности обнаруживает большое многообразие типов личности. Между истерическими симптомами и истерической личностью имеется одна, хотя и пересекающаяся область, а именно в том случае, если пациенты одновременно проявляют черты истерической личности и истерические симптомы. Явление истерической конверсии2 представляет собой модус декомпенсации, который встречается не только у истериков (истерических личностей). К сказанному следует добавить, что конверсия — это лишь одна из возможных модальностей соматизации (см. статью Я. Бастиаанса).
Конверсия, по-видимому, встречается тем чаще, чем инфантильнее личность. Согласно Лемперьеру, утверждающему, что с наступлением конверсии страх исчезает (“belle indifference” 3), способность к конверсии предполагает “особую ней-робиологическую оснащенность”.
Лазар, Клерман и Армор использовали факторный анализ. Они выявили пять классических доминирующих черт: эмоциональную лабильность, истероидность, эротизацию социальных отношений, эгоцентризм и зависимость. Парадокс полученных данных состоит в том, что оба классических признака, а именно суггестивность и сексуальный страх, неожиданно не обнаруживают между собой корреляции. Согласно Лемперьеру, суггестивность должна коррелировать с оральными чертами личности. Айзенк указал на то, что из всех больных истерики менее всего суггестивны и услужливы. Лемперьер справедливо считает, что отсутствие какой-либо корреляции с чертой “сексуальный страх” следует отнести на счет метода анкетирования, в котором делается акцент на роли вытеснения, а также желании к согласию с группой. Здесь мы наталкиваемся на одно из ограничений психологического исследования, которое сохраняется даже в том случае, если исследование проводится по возможности объективно. Здесь следует также указать на то, что в упомянутом исследовании изучалась исключительно женская истерия.
Для Лемперьера истероидность образует ядро истерической личности. С этим ядром связаны чрезмерная реактивность, склонность к манипулированию, чрезмерная зависимость и постоянное сексуально провоцирующее поведение. У трети подобных истерических личностей эти черты характера с возрастом улучшаются. При наличии дополнительных конверсионных симптомов этот прогноз оправдывается лишь в редких случаях.
В заключение следует также указать на истерию мужчины. В этом случае ядро истерической личности (истероидность) имеет тенденцию проявляться еще более выраженно. Это имеет место прежде всего у военных: последствием являются отчетливые кризисы, панические реакции, попытки самоубийства, шатания с потерей памяти и т.д. У гражданских лиц наблюдается, например, следующее: они терпят неудачу в аферах, о которых хвастливо возвещали, спасаются бегством в болезнь или пьянство, тиранизируют собственную семью. Описан еще один тип — пассивной, зависимой личности, характеризующейся незрелостью и преобладанием женских черт. С. Лисфранк-Фор отмечает, что бегство в болезнь связано с двумя основными установками — либо с радикальным отказом от мужественности, либо со значительной выгодой от болезни.
Сколь ни интересны эти исследования, во всех них можно выявить подход, который оказывается ограниченным постольку, поскольку основой всегда является лишь поведение пациента.
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИСТЕРИИ
Фрейд, конверсионная истерия и ее будущее
Хотя именно Шарко в 1895 году дал Фрейду значительный стимул к тому, чтобы приступить к изучению сексуальности, решающей для него все же оказалась встреча с Брейером, ибо она привела к первым научным дискуссиям еще до опубликования “Очерков об истерии” (1895). Брейер считал, что первостепенное значение имеет гипноидное состояние, как будто угрызения совести не могли открыть доступ к бессознательному. Фрейд же наоборот уже склонялся к идее о примате бессознательного. Здесь нам не нужно еще раз разбирать отдельные фазы, которые привели от гипнокатартического метода к психоанализу, творению самого Фрейда. С полным основанием говорилось об открытии заново психоанализа. Однако следует добавить, что собственно открытием Фрейда было прежде всего открытие вытеснения и бессознательного — не сексуальности вообще, а инфантильной сексуальности. В этом контексте весьма странным является тот факт, что вопреки тем догадкам, которые были высказаны в 1897 году, открытие эдипова комплекса произошло с некоторым опозданием.
Необходимо вспомнить о том, каким образом Фрейд перешел от травматической теории совращения к теории фантазий о совращении. К сожалению, все обстоит не так просто, поскольку без преувеличения можно утверждать, что психоанализу еще долго придется решать эту проблему. С самого начала в психоанализе имеются спорные теории относительно внутренних и внешних причин возникновения различных психических недугов, которыми страдают ребенок и взрослый. От теории травматического генеза до сих пор так и не отказались; она появляется сегодня в других формах и распространяет сферу сексуальных травм на травмы первого года жизни. Ее вновь можно встретить у многих авторов (например, у Гартманна — “среднеожидаемое окружение” — или у Винникотта — “достаточно хорошая мать”),
В противоположность этому можно, пожалуй, сказать, что Мелани Кляйн выступает в защиту идеи о, так сказать, “эндогенном” происхождении истерии, объясняя психические расстройства непрекращающимися конфликтами между влечением к жизни и влечением к смерти. Что касается этих различающихся взглядов, то Фрейд предусмотрительно, как это было ему присуще, никогда не отказывался от представления о дополнении факторов (конституция плюс приобретенный опыт), хотя до конца своей жизни признавал, что многие деформации Я могут объясняться ранними травмами, случившимися на стадии развития, когда незрелое Я оказывается неспособным войти в ситуацию таким образом, чтобы могли заработать защитные механизмы, достаточно дифференцированные для того, чтобы не нанести ущерба его развитию.
История истерии в контексте психоанализа — это одновременно история парадокса и разочарования.
Мы уже указывали на то, что не было случайностью, что именно медик проник в тайны истерии, хотя в принципе с этой задачей мог справиться, конечно, социолог или теоретик культуры. Истерик ожидает от терапевта двух вещей: во-первых, обозначения своего заболевания как физического недуга, во-вторых, доказательства того, что терапевт в конечном счете потерпит неудачу и будет отвергнут. Вначале он пробуждает у медика желание проводить лечение, чтобы завести затем того в тупик путем (одобряемой, отвергаемой или скрытой) эротизации отношений с терапевтом. Фрейд же уклонился от участия в этой игре и тем самым сумел заманить истерика в его собственную западню. Одновременно ему удалось раскрыть значение и структуру истерических феноменов, пролить свет на их связи с другими клиническими картинами болезни и разработать психоанализ. Фрейд разграничил две сферы: сферу действительных неврозов (ни неврозы страха, ни ипохондрия, ни неврастения не являются составной частью истерии) и сферу неврозов переноса (истерия страха, конверсионная истерия, фобии и неврозы навязчивых состояний). В нашу задачу не входит рассмотрение важности такого разделения и различных форм истерии, описанных самим Фрейдом или вместе с Брейером (гипноидная истерия, ретенционная истерия, истерия страха, конверсионная истерия). В конечном счете неврозы переноса были противопоставлены нарциссическим неврозам (маниакально-депрессивному психозу и шизофрении).
Процесс исторического развития психоанализа должен был сделать парадокс очевидным. После 1917 года конверсионная истерия исчезает из комментариев Фрейда (если не принимать во внимание работы о травматических неврозах). Исключение из этого составляют лишь труды по истории психоанализа. Таким образом, конверсионная истерия является отправной точкой и одновременно точкой соотнесения. Правда, остающаяся часть психопатологии описывается посредством конверсионной истерии, которая в клинической практике в силу социально-исторического развития встречается все реже и реже. Здесь необходимо подчеркнуть, что, хотя истерия продолжает существовать в своей конверсионной форме, чаще всего привлекает к себе внимание истерический характер. Фрейд исходил не из истерической структуры, а из конверсионной истерии. Но мы сегодня знаем, что истерическая структура и конверсионная истерия иногда совпадают. В классической психоаналитической концепции истерия связана с генитальностью, тогда как в современной клинической практике подчеркивается значение догенитальной фиксации, к рассмотрению которой мы еще вернемся. В связи с этим можно задать себе вопрос, следует ли довольствоваться противопоставлением истеро-фобической и компульсивной структур, то есть фаллической фиксации, с одной стороны, и анального расстройства — с другой, и не должна ли переоценка истерии повлечь за собой пересмотра психопатологической систематизации Фрейда.
Разочарование
В классических работах истерия рассматривается как тип болезни, при котором рекомендуется психоанализ. Однако в наши дни приходится часто сталкиваться с тем, что истерия объявляется не подвластной анализу. И все же в “Очерках об истерии” речь идет о пациентках, в отношении которых позволительно спросить, действительно ли все они — больные истерией. К тому же нередко бывает очень просто с помощью позитивного переноса добиться симптоматического излечения. И наоборот, структурные изменения, на которые нацелен психоанализ, зачастую оказываются либо ограниченными, либо слабыми. Не следует ли из этого сделать вывод о том, что для психоанализа было бы лучше, чтобы он признал свое поражение в этой области? Или не следовало бы из этого заключить, что необходимы методические изменения? В любом случае несомненно то, что по отношению к этим вопросам нет полного единодушия. На Международном психоаналитическом конгрессе в Париже четверо его участников и ведущий дискуссии за круглым столом (Берес, Бренман, Грин, Намнум и Лапланш) придерживались различных точек зрения: от классической фрейдовской до четко выраженной кляйнианской позиции. Но все это однозначно показало, что “Истерия сегодня” — такова тема дискуссии — по-прежнему остается неразработанной. Все же прежде чем перейти к рассмотрению работ последнего времени, необходимо кратко обобщить накопленный опыт, которым мы обязаны Фрейду и его последователям.
Фрейдовская теория истерии
Защитные невропсихозы (1893—1896)
“Очерки об истерии” (1893—1895) — результат совместной работы Брейера и Фрейда. Однако собственно фрейдовская теория истерии начинает прорисовываться только с рассмотрением защитных невропсихозов (1894—1896: письмо Вильгельму Флиссу от 1. 1. 1896 г.). В рамках жесткого параллелизма происходит взаимное определение истерии, фобий и невроза навязчивых состояний (Green 1954). Все вместе они образовали область, которая должна была стать сферой для приложения психоанализа. В этот период представлена травматическая теория. Роль травмы обусловлена ее последствиями: расщеплением особым образом оформленного психического ядра. В этом контексте мы должны вспомнить о двухфазной структуру травмы (детство и пубертатный период), причем вторая фаза — это фаза, в которой вспоминается событие. “Истерик страдает от воспоминаний”, и значимость этих воспоминаний определяется тем, что болезненное заклятие прошлого исполняется в теле, измененном пубертатом. Из “досексуального” травматического периода индивид перешел в сферу сексуального; это различие в пережитом является, однако, весьма существенным. Расщепленное психическое ядро управляется специфической психической каузальностью; об этом свидетельствует анализ воскрешенного в памяти. Категория каузальности присуща особому нозографическому классу — защитным не-вропсихозам, в которые первоначально включались как неврозы, так и определенные психозы (паранойя, меланхолия, хронические галлюцинаторные психозы) и которые отличаются от актуальных неврозов, где преобладают неотложные вытеснения. В конечном счете защитные невропсихозы с клинической точки зрения подтверждают наличие бессознательной организации, находящейся в конфликте с Я.
В чем же специфика истерии? Функция истерического симптома состоит в том, что благодаря конверсии ослабевает бессознательное представление. “При истерии обезвреживание невыносимого представления происходит благодаря тому, что сумма его возбркдения превращается в телесное явление, для чего я бы хотел предложить название конверсия” (I, 63) 4. Акцент делается на обязательном отведении и переносе психического конфликта, который теперь разрешается на другом уровне. Тем не менее удовлетворение желания достигается также и в телесной сфере, поскольку при конверсии речь идет о символической соматизации. Соматическая же восприимчивость является средством, с помощью которого происходит удовлетворение желания. Попутно здесь следует заметить, что фобия представляет собой психическое проявление невроза страха, то есть результат действия механизма, противодействующего конверсии, поскольку страх, проявляющийся (в соматической форме) в неврозе страха, а именно в обмене между сознательным и бессознательным, преобразуется и связывается психическим репрезентантом, причем это происходит с различных точек зрения: экономической, динамической и топически-функциональной.
Дора (1901)
По нашему мнению, раздел “Дора” характеризуется отношением между сновидением и истерией, образующим предмет данной публикации. Помимо конверсии, определение которой уже дано, Фрейд описывает роль превращения аффекта, при котором место желания и амнезии занимает антипатия, из-за чего истерик становится столь непонятным. Но прежде всего в этот период описываются три важных факта:
1) перенос;
3) эдипов комплекс, который в том, что касается роли идентификации, характеризуется бисексуальностью и ее последствиями.
Другими словами это означает:
— истерия является сферой преобладания эроса, переноса, эдиповых чувств влюбленности в их бисексуальной форме;
— в результате конверсии истерический симптом создает дефект, через который он метафорично выражается;
— мышление сковывается формами воображения, фантазиями, в которых проявляются разнообразные идентификации.
После опубликования случая Доры 5 появились многочисленные работы, целью которых было исследование причин неудачи Фрейда, а также реальной ценности его теории. Некоторые объясняют эту неудачу недостаточным анализом гомосексуальности, то есть моментом, который позднее признал и сам Фрейд. Как нам известно, на Феликса Дойча (Deutsch 1957) огромное впечатление произвели явные деформации личности Доры, которую он вновь увидел в 1922 году. М. Файн, П. Марта, М. де Мюзан и Ч. Дэвид (Fain et al. 1968) утверждали, что Дора представляла собой случай не истерии, а вторичной истеризации психосоматических расстройств, прогноз которых является менее благоприятным. Как всегда, “малая истерия” представляется нам сегодня в силу временной отдаленности тяжелым неврозом.
Фантазии и истерические приступы (1908—1909)
В 1908—1909 годах Фрейд подготовил две наиболее важные и, без сомнения, завершенные работы об истерии. В статье “Истерические фантазии и их отношение к бисексуальности” (1908) устанавливается связь между грезами, осознанными и бессознательными фантазиями, мастурбацией и истерическими симптомами. Представление о невыносимой репрезентации травмы, лежащей в основе симптома, дополняется представлением о сгущении многочисленных фантазий. В результате “ассоциативного возвращения” симптом становится их эрзацем.
Работа “Общий взгляд на истерический приступ” (1909) довершает предшествующие наблюдения. В отношении истерических приступов речь отныне идет исключительно о спроецированных и приведенных в действие фантазиях, в которых действие (в драматическом смысле) разыгрывается как пантомима. Но таким образом — как и в сновидении — на пути от фантазии к симптому происходят различные искажения. И так же, как в сновидении, анализ позволяет пролить свет на их причины и значение. Анализ, однако, доказывает: преобладание механизмов сгущения, взаимодействие разного рода идентификаций, наличие противоположных сексуальных ощущений и гомосексуальности в процессе происходящего. Этиология и функция фантазий состоят в том, чтобы обеспечить замену вытесненному инфантильному сексуальному удовлетворению. В действительности здесь имеет место чередование: вытеснение/неудача следует за вытеснением/возвращением вытесненного.
Труды по метапсихологии (1915—1916)
В этих работах Фрейд последний раз обращается к теме конверсионной истерии. Внимание Фрейда привлекает судьба аффективных импульсов, вытеснение которых должна объяснить “belle indifference”. Репрезентант влечения уходит из сознания, принимая форму конверсии. Это — результат сгущения, приводящего к формированию эрзаца. Благодаря ему аффективный нейтрализуется. Правда, такое достижение имеет преходящий характер, так что индивид вынужден создавать новые симптомы.
“Торможение, симптом и страх” (1926)
В этом труде практически не идет речи об истерии — здесь подробно анализируется фобия и в первую очередь Фрейд уделяет внимание проблеме торможения. И хотя данная работа не имеет явного отношения к истерии, однако в той мере, в какой торможение является для Фрейда следствием чрезмерной эротизации несексуальной или десексуализированной функции, можно, пожалуй, предположить, что торможение предшествует конверсии. Более того, многие авторы уже в после-фрейдовский период рассматривают торможение (особенно если оно касается сексуальности) в качестве одной из модальностей по крайней мере некоторых форм истерии. Однажды возникшее торможение наносит ущерб Я. Истерические пациенты (вопреки их собственному мнению) испытывают страх не перед возможной неудачей, а перед желанием, осуждаемым Сверх-Я, то есть Сверх-Я, которое нельзя ввести в заблуждение переносом эротизации на функцию Я.
Заключение
Мы увидели, что Фрейд занимался чуть ли не исключительно генитальной проблематикой истерии. И наоборот, так называемым догенитальным фиксациям внимание практически не уделялось. Анальность и оральность упоминаются только в связи с их функцией топической регрессии. Точно так же и Я лишь в незначительной степени становится предметом тщательного исследования. Сама же конверсионная истерия расценивается Фрейдом как успех, так как в этом случае — в отличие от фобии или навязчивости (см. статью П. Куттера) — экономия неудовольствия является чуть ли не всеобъемлющей.
Истерия с позиции эпигонов — генетическая и структурная точки зрения
Соратники и последователи Фрейда должны были вначале обогатить его представление об истерии, а затем изменить его. Поскольку соответствующая литература весьма обширна, нам предстоит сделать выбор. До поры до времени внимание уделялось симптому, позднее — неврозу, затем — характеру и, наконец, — структуре.
Статья Шандора Ференци “Феномены истерической материализации” (1919) в связи с этим играет классическую роль. Ференци — первый, кто признал важную роль Я в телесном языке истерика. По его мнению, регрессию Я истерика надлежит относить к тому времени, когда организм, чтобы приспособиться к реальности, как раз эту реальность и пытается изменить с помощью магических жестов. Единственное, что делает истерик, — это разговаривает со своим телом, словно факир, играет с ним. Он сексуализирует часть тела, в которой находится симптом. Эта материализация, однако, осуществляет желание с помощью магической фантазии. На основе материи, которой человек располагает в своем теле, ему — подобно художнику, придающему форму материалу в полном соответствии с замыслом, или оккультисту, по простому требованию медиума, представляющему “создание” либо “материализацию” определенных объектов, — удается создать — пусть даже пока еще столь примитивную — наглядную репрезентацию (Ferenczi 1964). Мы видим, что здесь имплицирована регрессивная модальность, которая не довольствуется галлюцинаторным осуществлением желания, подобным тому, которое происходит во сне. Именно Ференци одним из первых поставил под сомнение генитальную фиксацию истерии, поскольку регрессия, рассматриваемая с этой точки зрения, является весьма глубокой. Мы можем сказать, что взгляды Ференци во многом близки взглядам Гроддека. Регрессия в “первобытное состояние”, каким его видит Ференци, имеет определенные последствия для того представления, которое имеется у нас о языке тела и языке в целом. Органическая основа, на которой возникает все символическое в душевной жизни, отчасти проявляется и в истерии.
Символические катексисы телесных функций и так называемая сексуализация предполагают смещение эротического ощущения с полового органа на другие части тела, причем возбуждения сексуальности вновь материализуются (соматизируются). Но, как и прежде, представляет загадку удивительная пластичность, которую выказывает истерик, этот безупречный акробат во всем, что касается желаний и стремлений.
Вильгельм Райх в своей работе “Анализ характера” (Reich 1933) исследовал связь между соматической гибкостью и сексуальным хвастовством истерического характера. Райх объяснил тот глубокий страх, который должен охватывать истерика в процессе полового акта. Поверхностная эротизация, отличающая этих людей, всегда остается лишь тактикой, с помощью которой они противостоят опасности. Эту позицию можно, пожалуй, сформулировать следующим образом: уж лучше обольстить в момент, который выбираешь сам, чем оказаться обольщенным при неожиданном нападении, не располагая временем для выработки защитных стратегий. При эротических встречах истерик пытается опередить своего партнера, ибо он хочет быть ведущим в танце. Он должен держать под контролем происходящее. Истерик стремится не удовлетворению влечения, а к тому, чтобы одолеть партнера. Возникающий застой либидо вынуждает к постоянному повторению. Панцирь характера служит защитой. Парадокс здесь заключается в том, что сама защита по своей природе является сексуальной. В конечном счете сексуализация является наилучшим оружием против сексуальности. Райх отметил также оральную регрессию истерика, наступающую в период депрессии; эта депрессия возникает в результате утраты любви, а еще чаще — вследствие отказа от объекта. Из-за этой давней фиксации сдерживается или становится невозможной сублимация. Но поскольку реактивные образования являются слабыми, панцирь, о котором говорилось выше, оказывается не более чем щитом из картона, не способным защитить человека от стремления к непосредственному генитальному удовлетворению, то форсируемого, то оттягиваемого. Благодаря Райху стало больше известно о грозящем распаде, из-за которого истерическая личность скрывается от внешнего мира. Поскольку клиническая область изменилась, то можно, пожалуй, говорить об истеро-фобическом Я.
Федерн и Фенихель противопоставляли это — здесь они придерживались фрейдовской традиции — компульсивному Я. В своем исследовании Фенихель (Fenichel 1931) 7 вновь обращается к классическим данностям, которые он подвергает дальнейшей разработке. В этой статье нам представляется важной прежде всего идея о необходимости разграничивать моносимптоматическую конверсию и невроз органов, что позволяет понять различие между истерический неврозом и психосоматическим заболеванием. Кроме того, возникает новая нозографическая категория, а именно категория догенитальных конверсии (заикание и тики). Фенихель приписывает важную роль идентификации. В определенном смысле можно сказать, что пластичность тела/ которая является причиной его соматической податливости, возрастает вдвое благодаря психической пластичности, а именно благодаря использованию идентификации, осуществляемой в различных целях. Идентификация может происходить как с соперником, так и с утраченным объектом: две типичные идентификационные модальности, последняя из которых характерна для меланхолии. Поскольку нам известна частота приступов депрессии у истериков, эта связь нас не удивляет.
Хотя Фенихель, по-видимому, остается сторонником классической фрейдовской концепции, в которой фиксация относится к фаллической стадии, он не исключает возможности и более поздних фиксаций. По его мнению, истерикам не удается идентифицировать свое Я со своим телом. Абрахам и он придерживаются той точки зрения, что генитальность исключена из любви и что важную роль играют инцестуозные фиксации. Здесь необходимо вспомнить о том, что и у женщины эти фиксации имеют отношение как к матери, так и к отцу. Что касается женской сексуальности, то недавно проведенные сексологические исследования, в которых изучалась роль клитора и вагины, похоже, делают необходимой новую оценку. Как бы то ни было, на уровне фантазий проблема состоит в том, чтобы расчленить свою половую принадлежность, например, желание иметь пенис (или зависть) — страх перед ролью матери, или желание иметь детей — отношение к материнской груди (зависть) и т.д.
Здесь уместно прояснить влияние представлений Мелани Кляйн. Поскольку, по ее мнению, существует психотическое основание неврозов, вполне логично, что ее представления были ориентированы в направлении, указанном Ференци, то есть в направлении “орализации истерии”, где проблематика пениса была заменена проблематикой материнской груди. В соответствии с этим и либидо играло всего лишь роль приманки, тогда как реальная проблема помещалась в деструктивные влечения. Возобновив анализы фобий “человека-волка” (1932) 8, она описала паранойяльные фобии, возникающие вследствие страхов преследования; эти страхи тесно связаны с деструктивными желаниями, которые проецируются на объект и призывают к отмщению. Это, однако, является заблуждением, поскольку вполне очевидно, что фобии “человека-волка” сегодня рассматриваются уже не как случай невроза, а как пограничное состояние. Впрочем, Фрейд не высказывался по этому поводу — он говорил (1918) об “истории детского невроза” (курсив А. Г.), а не о неврозе взрослого.
Тем не менее под ногами обрело почву представление об “оральной истерии”. Существует немало авторов, которые не являются кляйнианцами, но все же признают существование этого вида истерии (Grunberger 1953; Bouvet 1956; Marmor 1953). Фактически у многих сложилось впечатление, что довольно сложно разделять мнение Фрейда об успешности защиты с помощью конверсионных явлений. Слишком дорого стоит недуг, означающий неудовольствие, в сравнении с тем, что избегается. Ориентированная на приспособление точка зрения, в основе которой лежит принцип реальности, заменяет позицию Фрейда, исходящую из принципа удовольствия. Речь, следовательно, идет не столько о несовместимости обоих положений, сколько об аргументации на двух уровнях. Остается открытым вопрос, на каком уровне происходит фиксация. Осуществляет ли истерик топическую регрессию, если у него проявляются фантазии о поглощении? Или речь идет о динамической регрессии, из которой вытекает наличие оральных фиксаций? На практике вопрос состоит в том, чтобы проводить четкое различие между истерическими неврозами и пограничными состояниями, хотя, вне всякого сомнения, существуют и переходные формы.
Эта дискуссия, признающая примат генетической точки зрения, истоки которой следует искать у К. Абрахама, породила противоположную точку зрения, опирающуюся на примат структурного подхода9 (Лакан и его ученики). В этой позиции является важным разграничение реального, воображаемого и символического. Лишь символическое позволяет понять незримые артикуляции воображаемого. Если истерик “разговаривает со своей плотью” (Lacan 1966), то этот язык надлежит расшифровать через его симптомы; эта позиция совпадает с позицией Фрейда в том отношении, что и он в различных формах истерического симптома наталкивался на аналогичные фантазии и механизмы сновидения. Необходимо также, утверждает Лакан, проводить различие между (физиологической) потребностью, (воображаемым) желанием и (символическим) требованием (у Лакана: besoin, dear, demande). Согласно Лакану, истерик характеризуется желаниями иметь неудовлетворенное желание. При этом кастрация продолжает оставаться в центре истерической проблематики. Фаллос — метафора пениса — и есть объект желаний истерика. Росолато (Rosolato 1962) разработал концепцию, в которой он в основном развивает идеи Лакана. “Фаллос” понимается здесь как символ обретения власти. Ребенок часто является своего рода фаллосом матери, с которым она не может расстаться. Из этого следует, что ребенок является фаллосом. Это полностью относится к истерику, переносящему эту роль на других, для которых он должен быть фаллосом.
С этим тесно связано желание иметь, получить фаллос, сопряженное с риском вновь его утратить. Последнее означает страх кастрации, обращения желания в антипатию и в “желание неудовлетворенного желания”, что позволяет избежать риска.
Вместо этого истерик идентифицируется с желанием другого (как у матери, фаллосом которой должен был быть ребенок) и отсюда возникает чувство никчемности.
В одной из работ о структурной модели истерии в 1964 году я указывал также на значение фаллоса. Кроме того, я попытался показать значение жизни в фантазии в связи с регрессией. Особое внимание мною уделено пробелам (лакунам) в психической структуре, возникающим в результате вытеснения и инверсии аффекта.
Кроме того, мне бросилось в глаза, что регрессия структуры либидо может маскироваться под фобию. В этом случае речь идет либо о псевдофобиях, предполагающих регрессию либидо (например, импульсивные фобии), либо о формообразованиях, предшествующих неврозу навязчивых состояний, либо, если имеют место вытеснения Я, об актуальных неврозах, пограничных случаях, психотических картинах болезни, в которых фобический симптом выглядит как симптом компенсации. Эти соображения подтверждают идею о фобически ограниченной репрезентации.
В контексте психоза переход происходит вследствие перескакивания в лаку-нарной структуре, предполагающей достижение границ одним скачком, но не в результате истощения защитных механизмов. С этим чаще всего сталкиваются в случаях депрессии, сходство которой с истерией объясняется тем, что в обеих структурах преобладают механизмы идентификации.
НОВАЯ ОЦЕНКА ИСТЕРИИ
Работы фрейдовского направления
До сегодняшнего дня коллеги, высказывающиеся по проблемам истерии, придерживают различных позиций. В полемику был вовлечен целый спектр мнений.
Б. Р. Эассер и С. Р. Лассер (Easser, Lasser 1965) после появления классического исследования Ходоффа и Лайонса попытались дать новую оценку истерической личности и досконально исследовать причины чаще всего неудовлетворительных результатов лечения. Было показано, что лица с истерическими нарушениями личности оказывают лечению более сильное сопротивление, чем пациенты, проявляющие лишь истерические симптомы. Складывается впечатление, что истерики являются одновременно и самыми хорошими, и самыми плохими пациентами. В связи с этим возникает желание иметь точные дифференцировки. Эассер и Лассер столкнулись с известными классическим данностями: неудовлетворенностью, желанием обольстительного всесилия, чувствами стыда и унижения в ситуации отвержения, важностью семейных фиксаций (на инфантилизирующей матери, на обольстительном отце, который тем не менее нетерпим к любому пубертатному проявлению сексуальности), компенсаторной трансформацией в фантазии сексуального торможения. В конце Эассер и Лассер выделяют следующие типичные черты истерической личности: эмоциональную лабильность; активное и непосредственное вовлечение во внешний мир из-за выраженного желания быть любимым другими; нетерпимость не только к фрустрации, но и к чрезмерному возбуждению; тесную связь между сильной возбудимостью и возникающими фантазиями.
Этой типичной истерической констелляции Эассер и Лассер противопоставляют истероидный тип. Если истерик представляет собой карикатуру женственности, то истероид — карикатуру истерика. Здесь своей высшей точки достигают стяжательство, агрессивность, эксгибиционизм, мышление категориями соперничества и эгоцентризм. Но если у истерика возникают трудности в отношениях с другими, то проблема истероида заключается в установлении отношения с другими. Здесь мы имеем дело с теми бурными и лишенными оттенков отношениями догениталь-ной структуры, которые были описаны еще Буве (Bouvet 1956, 1960). Для истероидов любые отношения фактически содержат в себе угрозу обоюдного самопоедания. Наверное, мало кто удивится, обнаружив, что материнская фиксация явно преобладает здесь над отцовской. Это означает, что мир фантазий с самого раннего детства ирреалистичнее, идеализированнее и сильнее, чем у других, отрезан от какой-либо их реализации. Во взрослом возрасте снижается эмоциональный контроль и стрессоустойчивость при конфликтах и вместе с тем усиливается угроза депрессии или реакция отыгрывания. Страх отделения становится ярко выраженным, возникают благоприятные условия для оральной регрессии. Если потребность быть любимым не удовлетворяется, окружающий мир становится враждебным миром, в котором велика угроза умереть от изнеможения (Malle 1956). Эти исследования, зачастую в большей степени психологические, чем психоаналитические, способствуют прояснению клинических проблем. Фактически невозможно избавиться от мысли, что истероиды 1965 года весьма схожи с истериками, о которых шла речь в “Очерках” 1895 года. Другие авторы описывают истероидов как пациентов пограничного типа.
Эти наблюдения согласуются с “so called good hysteric” [так называемый доброкачественный истерик (англ.). — Ред.] Э. Р. Цетцель (Zetzel 1968). Автор пытается отличить настоящего истерика (подверженного эдипову комплексу) от ложного, находящегося под сильным влиянием доэдиповых стадий, что делает его малодоступным для анализа.
Что удивляет у многих авторов, так это “обвинительное” отношение К женщинам, тогда как в комментариях по поводу мужской истерии можно обнаружить больше терпимости. Здесь все же необходимо учитывать особенности развития женской сексуальности. Кроме того, авторы создают также впечатление, что в задачу аналитика не входит поиск терапевтических модальностей, которые бы соответствовали нетипичным структурам пациента, и что сам пациент должен адаптироваться к требованиям аналитика. У наиболее тяжелых пациентов Цетцель обнаружила отсутствие в первые четыре года жизни или тяжелую болезнь одного из родителей.
Учитывая подобные представления, не должно удивлять, что многие авторы как и прежде придерживаются фрейдовской концепции истерии (см.: Laplanche 1974) 10. И все же ряд авторов ставит под сомнение позицию Фрейда в вопросе об истерии, пытаясь найти в его трудах следы той идеи о совращении, жертвой которой, что касается истериков, он стал сам. Р. Мэйджор (Major 1974) утверждает: истерик заманивает психоаналитика тем, что льстит ему и дает ему то, что он (аналитик) ищет: подтверждение теории, которую он развил, исходя из своей собственной личности, причем истерик в конечном счете не вписывается в нее и в подходящий момент разочаровывает аналитика опровергающим контрдоводом. Также и Дора ускользнула от Фрейда после того как взлелеяла его желания-грезы. Фрейд сумел втереться в доверие к Доре, выведать ее тайну. Дора же разбиралась в том, как при необходимости провести Фрейда с его чудесными толкованиями, отдав предпочтение беседам с фрау К. Из этого Мэйджор делает вывод, что в подобных случаях речь идет об отношениях, в которых перемешаны очарование и подхалимство, поскольку тот, кто полагает, что находится в положении господина и наставника, всякий раз явно оказывается во власти уступчивой прислуги. Но, как считает Мэйджор, анализ является единственным языком (языком вербальной символизации; см. статью П. Орбана), с помощью которого можно избежать этих случаев аффективного понимания, из-за которых всегда есть шанс пострадать от новой формы суггестии. Истерии же предопределено постоянно рождаться в новой форме, для которой культурная среда поставляет соответствующую экипировку.
Точку зрения, сходную с только что изложенной, мы встречаем в работе Ф. Перье (Perrier 1968), испытавшей на себе влияние идей Ж. Лакана. В ней все же акцент делается скорее на бисексуальности истерика, вернее, на его нерешенном вопросе об отличии мужчины от женщины. Этот вопрос ставится как в отношении переживаний символической кастрации, так и “дилеммы обладания или наличия фаллоса”. В этом смысле можно сказать, что загадкой для истерика является сама женственность, особенно если истерик — женщина. Во всяком случае именно отношение истерика к своему телу создает трудности при анализе. Речь здесь идет не столько о зависти к пенису, сколько о зависти к фаллосу, причем в отношении фаллоса предполагается, что он обеспечивает его владельцу полную власть над желанием. Работа Перье примечательна тем, что в ней достаточно места уделено мужской истерии.
Я. Любчански в одной из своих работ, которую пронизывает исследуемая ею тема, попыталась разработать “экономический принцип в истерии, исходя из представлений о травме в трудах Фрейда” (Lubtschansky 1973). При этом она предприняла попытку преодолеть дилемму “оральная истерия — генитальная истерия”, выдвинув гипотезу о функционировании двух травматических ядер — “одно ядро отвечает за связанные энергии и порождает симптомы, другое ядро отвечает за несвязанные энергии и вызывает специфическое поведение, а именно навязчивое отыгрывание, решительный разрыв отношений, быстрый (лабильный) катексис и быстрое (лабильное) устранение катексиса, попытки самоубийства, а также состояние, которое, если рассматривать в аффективном аспекте, представляет собой депрессивное расстройство настроения”. Истерия, рассматриваемая таким образом, представляет собой историю как смерти, так и любви. Автор весьма убедительно доказывает, что весь фрейдовский труд характеризуется постоянной конфронтацией с травматической этиологией. Этим же способом взаимоувязываются истерия и травматический невроз. И “нормальная” травма от утраты объекта, и последующая работа печали важны, более того, необходимы для психической реальности. Противопоставление травматического и сигнального страха свидетельствует о том, что мы имеем здесь дело с двумя дополняющими друг друга модальностями страха (см. соответствующую статью Д. Айке). Эта работа демонстрирует, что в отношении проблематики истерии можно найти новые решения, если воспользоваться концептуальными инструментами Фрейда, прежде всего теми, которые сам он не всегда в полной мере использовал.
В связи с затронутым Я. Любчански разделением связанной и несвязанной энергии возникает важная проблема. Защитная истерия поднимает вопрос о защите истерика. Концепцию защиты мы встречаем как на начальной стадии развития психоанализа (в представлении о защитных невропсихозах), так и в позднем творчестве Фрейда и в работе Анны Фрейд (в виде защитных механизмов) (А. Freud 1936). В период между ними доминировала теория вытеснения (см. статью В. Шмидбауэра). Поэтому можно задать вопрос: какие взаимосвязи существуют между вытеснением — общим концептом психоанализа — и истерией — особым нозографическим классом? На этот вопрос Фрейд дал ответ в своей работе “Торможение, симптом и страх” (1926). Он допускал, что между вытеснением и истерией, с одной стороны, и изоляцией и неврозом навязчивых состояний — с другой существуют тесные взаимосвязи. Следует ли из этого заключить, что вытеснение является всего лишь модальностью защиты, одной среди прочих? Это еще мягко сказано. Ведь у некоторых авторов вытеснение является одновременно прототипом любой защиты. Однако там, где речь идет об истерии (собственно говоря, о сексуальности), она представляет собой также специфический способ защиты. Сегодня мы хорошо знакомы прежде всего с первичным и вторичным вытеснениями и их разновидностями: отвержением, отрицанием и отречением в психозах и перверсиях. Но все эти разновидности, без сомнения, выполняют единую функцию: связывание свободной энергии и формирование — в каждом случае протекающее по-разному — бессознательного. Не поэтому ли Р. Диаткин (Diatkine 1968) вновь присоединяется к фрейдовской гипотезе, утверждающей, что вытеснение является доминирующим в истерии механизмом? Всякая ссылка на концепцию защиты неизбежно ставит определенные вопросы. Имеется ли хронологическая классификация форм защиты? Как обстоит дело с клиническими формами инфантильной истерии?
С. Лебовичи (Lebovici 1974) попытался очертить эту проблему. В действительности психоаналитический подход в отношении ребенка весьма поучителен. Говорят об инфантильной истерии. Но что такое истерический ребенок? Этот вопрос привлекает к себе особое внимание, поскольку у ребенка конверсия наблюдается лишь в редких случаях. Примечательно то, что здесь имеют дело с историей самой истерии. Например, отношение истерии к симуляции. Имеется в виду симуляция патологического состояния, возникшего из-за нанесения себе телесного повреждения, которое в одном из наблюдавшихся случаев стало причиной гангрены, повлекшей за собой ампутацию. Можно вспомнить также о мифомании, проявляющейся, правда, в менее первертированной форме, чем на границе с галлюцинациями. Обычный семейный роман пронизан вымышленными убеждениями. Однако в соответствии с современным уровнем развития науки об инфантильной истерии судят с точки зрения не столько конверсии, сколько истерического характера. Здесь сталкиваются с ролью оральных фиксации. Подобно Диаткину, Лебовичи усматривает во вторичном вытеснении селективную защиту. Он исследует важный вопрос предрасположенности к истерии. Что озадачивает в расходящихся описаниях (оральность — генитальность), так это выпадение анальности, которая, по-видимому, недостаточно укоренилась. И наоборот, существует преждевременный гиперкатексис сексуальности, слишком ранняя сексуализация, которая, так сказать, переносит на более ранний срок возраст сексуальной идентификации; результатом является слишком ранняя гиперсексуальность и эротизация всего тела, как у взрослых. Выражаясь метапсихологически, мы сталкиваемся с либидинозной перегрузкой, а также с распространением сексуальности, которая выходит далеко за пределы эрогенных зон. Во всяком случае это то, что происходит внешне. Некоторых удивляет прежде всего отсутствие в процессе развития непрерывности и переработки. Одно быстро сменяет другое! Более чем примечательно отрицание агрессивности. Жак Кен в пока еще не опубликованной работе отстаивал гипотезу, что это отрицание истериком необходимо для формирования его идентичности. Для истерика отрицание является единственным средством выдвинуть самого себя, утвердить себя в своей особой идентичности. Но тем самым внешнее желание приспособиться к действительности связывается с фундаментальным отказом, имеющим отношение к сексуальной идентичности истерика. Благодаря этому отрицанию истерик приобретает идентичность, не согласующуюся с его собственным (фактическим) полом.
Как следует понимать эту модель? Лебовичи, подобно Винникотту, среди прочего настаивает на важности интеракций между матерью и ребенком. Одни лишь родительские высказывания не внушают доверия. Что касается роли травм, то они могут оцениваться, как отмечал это Фрейд еще в 1895 году, исключительно ретроспективно. Прежде всего следует вспомнить о том, что по Фрейду первой совратительницей ребенка является мать. Для Ференци ею является языковая путаница, поскольку в язык нежности и ласки ребенка вторгается — принявший форму сексуальности — язык страсти взрослого. Таким образом, для обоих авторов сексуальность должна быть травматической для Я независимо от того, исходит ли она изнутри или преждевременно пробуждается извне. Как бы то ни было, необходимо здесь подчеркнуть, насколько более важным является катексис психической реальности, чем учет реальности внешней. Здесь также происходит формирование ложного Я по Винникотту, того Я, которое соответствует создаваемому матерью образу ребенка, вынуждающему его адаптироваться к внешней реальности и отвергать реальность психическую. Инфантильный невроз взрослого и невроз ребенка — две разные вещи. Примечательно отсутствие непрерывности между проявлениями (симптомами) инфантильного и взрослого неврозов. Будущее истерического ребенка, если не учитывать случаи симуляции, практически неизвестно; это относится прежде всего к ребенку с истерическими симптомами. И наоборот, дети, причисляемые к истерикам из-за их характера, обнаруживают постоянство приобретенных черт.
Работы, инспирированные метапсихологией Кляйн
Совокупность предшествующих работ, как бы они между собой ни различались, укладываются в одну общую идею. Фактически все они находятся в контексте фрейдовской теории истерии, даже если они дополняют или исправляют этот контекст. Теперь мы должны рассмотреть еще одно течение, которое прямо или косвенно связано с теориями М. Кляйн (см. статью Р. Ризенберг в т. III). Однако мы можем прореферировать работы, которыми нам придется заняться, лишь уточнив ряд пунктов. В той мере, в какой концепция истерии учитывает женскую сексуальность, становится ясно, что проблема расщепления во многом перекрывается проблемой, разделяющей психоаналитиков на два лагеря. Фаллическая или оральная фиксация? Пенис или грудь? Эти вопросы, стоящие на переднем плане истерии, еще в 1925—1930 годах были вынесены Джонсом для обсуждения в рамках полемики, которая велась между Веной и Лондоном по вопросам женской сексуальности.
Вспомним о том, что Фрейд в своей работе “О женской сексуальности” (1931) открыл догенитальные корни истерии (см. также: Green 1972). Преобладание женской истерии и распространенность оральных фиксаций можно, пожалуй, объяснить особенностями отношения девочки к своему первичному объекту (груди матери), из-за которого возникают либидинозные, сексуальные, агрессивные и нар-циссические фиксации, важность которых еще более возрастает в силу зеркальных отношения девочка—мать. И наоборот, катектирование мальчика матерью имеет другие последствия. Кроме того, роль, которую играет культура в формировании женской сексуальности и, следовательно, в истерогенезе, обогатила спорный вопрос.
Оригинальные концепции Фэйрбэйрна11 (Fairbairn 1954) схожи с концепциями Мелани Кляйн и одновременно отличаются от них. Он модифицировал классическую концепцию истерии. То, что фрейдовская теория обозначает как вытеснение, Фэйрбэйрн называет диссоциацией. В этом отношении он примыкает к Жане и Блейлеру. Речь здесь скорее идет о расщеплении личности (в кляйнианском значении), чем о вытеснении. Такая замена — не просто игра слов. Как нам известно, Фэйрбэйрн отказался от фрейдовской концепции влечений в пользу концепции объектных отношений. Следовательно, расщепляется не нежелательное влечение, а часть личности. Для этого автора первичная защита заключается в интроекции неудовлетворяющего объекта. Этот объект имеет два аспекта — возбуждающий и отвергающий. У истерика возбуждающий объект чрезмерно возбужден, в то время как отвергающий объект чересчур отвергнут. В результате возникает конфликт между слишком либидинизированным либидинозным Я и крайне подавляющим антилибидинозным. Таким образом конституируется третий, идеальный, объект. В этой концепции интерес представляет тот факт, что она перескакивает через возникающий между психиатрами конфликт (генитальный— оральный). “Сексуальность истерика в своей сути в высшей степени оральна, тогда как его оральность, так сказать, в высшей степени генитальна”. Как мы видим, Фэйрбэйрн не соглашается с временным преимуществом орального перед генитальным. Фактически инфантильная мастурбация, служащая средством самоутешения, характеризуется преждевременной либидинизацией половых органов ребенка. Это, однако, предполагает идентификацию половых органов с возбуждающим объектом. Истерические состояния являются результатом не столько фиксации на определенных фазах развития либидо, сколько специфической техники регуляции внутренних объектных отношений. Впрочем, для Фэйрбэйрна эдипов комплекс уже не является ядерным комплексом, а представляет собой результат развития. Конфликтная ситуация треугольника складывается не между dramatis personae [действующие лица (лат.). — Ред.] семьи, а между центральным Я, возбуждающим объектом и отвергающим объектом.
Что касается конверсии, то ее основная функция состоит в замене личной проблемы телесным состоянием. Она возникает в таком случае, если вытеснение не способно преодолеть конфликт переноса (в широком смысле слова). Очевидно, Фэйрбэйрн не затрагивает структурного различия между истерической и психосоматической конверсиями. В этом смысле конверсионный симптом действует сообразно специфической технике защиты, наподобие заточения внутреннего объекта. Меняя приоритет концептов, Фэйрбэйрн отстаивает точку зрения, что факты, на которых основывается теория эрогенных зон, сами содержит нечто присущее феноменам конверсии. Фэйрбэйрн относится к числу тех немногих авторов, которые подходят к решению проблемы анальности окольным путем параллелизма между функцией анального поведения и отщепления внутреннего объекта. Вместе с тем не остается без внимания и вмешательство одного из родителей при трансформации личной проблемы в телесное состояние — равно как и при приучении к опрятности. Через мать аффективное притязание может превратиться в оральную потребность. Фэйрбэйрн высказывает свое убеждение в том, что либидо гораздо более ориентировано на поиск объекта (object seeking), нежели на поиск удовольствия (pleasure seecing). Данная точки зрения существенно расходится с фрейдовской. У Фэйрбэйрна конверсия представляет собой феномен, который можно было бы назвать корпорализацией поиска объекта. Аутоэротизм лишается доминирующего положения, которое он занимает во фрейдовском психоанализе. Он становится изолированной системой или, лучше сказать, особым каналом, служащим для поиска объекта. Здесь мы имеем дело с матрицей диссоциации.
Эта оригинальная теория, по-видимому, оказала большое влияние на английский психоанализ, особенно на Д. В. Винникотта. Впрочем, можно задаться вопросом, многие ли из пациентов, описанных Винникоттом, не являются представителями истерии, в том виде как она проявляется сегодня. М. Хан, продолжатель направления Винникотта, изучал мотивы неприязни истерика (Khan 1974). Также и он настаивает на преждевременной диссоциации между сексуальным опытом и креативной способностью Я. Истерик испытывает страстное желание получить сексуальный опыт и вместе с тем он удивительным образом не способен жить этим опытом и принять его. Отсюда его неистребимая неприязнь. Согласно Хану, который в данном пункте полностью согласен с Фэйрбэйрном, сексуализация является не чем иным, как признаком крушения аффективных, зависимых от Я отношений. Здесь мы сталкиваемся со столь типичным для истерика поиском идентичности. Неспособный решить проблемы, стоящие перед его Я, он автоматически склоняется к повторяющимся моделям “сексуального решения”. Этот факт бросается в глаза в пубертатный период, так как на этом этапе развития обостряется конфликт между сексуальностью и Я и так как сексуализация в данном случае является самой простой реакцией. Происходит уход в слишком раннюю генитальную сексуальность. Мы сталкиваемся здесь с проблематикой, которая симметричным и противоположным образом соответствует проблематике компульсивного невротика. Однако чем сильнее эта “генитальная” сексуальность пронизана фантазиями и догенитальными побркдениями, тем больше истерик рассматривает себя в качестве жертвы своих влечений и их последствий, “которых он вовсе не желал”. Все поведение истерика проникнуто желанием, что кто-то ему поможет, сделает за него. Но тем самым истерик становится настоящей жертвой извращенца, который, делая из него козла отпущения, удовлетворяет его потребность в невиновности и наказании. И если в конечном счете наступает неизбежный разрыв, истерик осознает то, что он ожидал от этих отношений: неадекватное функционирование Я. В этом смысле над любым отношением к истерику витает злой рок непонимания. Поскольку он находится в ловушке сексуальных желаний, другой человек не слышит просьбы истерика, порождаемые его Я. В действительности же на этом уровне речь идет не столько о страстных желаниях, сколько о потребностях, которые взывают к реакции окрркения. Отсюда также “флирт” истерика с психопатией, которая, по Винникотту, “понуждает окружающих задирать нос”. Это, однако, предполагает переоценку представления о травме. Согласно Хану, существует вполне реальная травма, но не сексуальной природы. Она связана с фрустрацией со стороны матери. Ребенок реагирует на нее в форме самолечения, которое выливается в приносящую утешение гиперсексуализа-цию. Это наблюдение предполагает изменение техники, ориентированной не столько на толкование фантазий и сексуальных или агрессивных желаний, сколько на реальную поддержку ребенка. Ведь ничто не дается истерику легче, чем уход от самого себя. Внутренняя жизнь истерика — это “кладбище отказов”. Поглощение (фаллического) парциального объекта еще более закрепляет отвержение человека (объекта в целом), частью которого этот объект является, поскольку проникновение матери столь опасно.
То, что было изложено Э. Бренманном в рамках дискуссии по проблемам истерии на Международном конгрессе в Париже в 1973 году п, еще больше ориентировалось на толкования М. Кляйн. Для него за сексуальным конфликтом разыгрывается еще один конфликт — конфликт между исполненной страхами угрозой катастрофы и отрицанием этих страхов; но это является признаком борьбы, будь то с ликвидацией Я или с тяжелой депрессией. Мы видим здесь истерика, находящегося в состоянии конфронтации и постоянного душевного разлада. В душе истерик полностью окружен своими примитивными страхами, но все же ему удается конституировать псевдообъект, позволяющий ему избежать психотического распада. В аналитической ситуации терапевтические связи подрываются двумя факторами: демонстративным доказательством того, что зло существует в другом, и потребностью в том, чтобы аналитик разделял с ним идеализацию образа Я. Подобные защитные маневры являются эффективным средством истерика противостоять своему страху катастрофы. Истерик стремится не столько к изменениям, сколько к той выгоде, которую он извлекает из своей истерии. В результате фальсификации истериком своего окружения его орально выраженная зависимость не ничего ему не дает. Используя другого в качестве лекарственного средства, он получает лишь вторичную выгоду от отношений в ущерб своей физической реальности. Предрасположенность к истерии лежит в основе установления ложных объектных отношений. Но это объясняется неспособностью матери управлять страхами и деструктивностью ребенка. Интересно, что Э. Бренманн отводит важное место установке матери, тем самым несколько уменьшая дистанцию между сторонниками и противниками Мелани Кляйн. Он полагает, что матерью владеет страх, который она переносит на ребенка. В результате возникает проективная “цепь соединений”, приводящая к взаимному усилению страхов. Одновременно мать находит всеисцеляющее средство, благодаря которой ребенок чувствует себя в полном порядке. В этом кроется причина истерического отрицания. Поскольку эта концепция построена на психотическом фундаменте, становится понятно, почему анализ истерика столь часто сопряжен с огромными трудностями.
Г. Панкоу (Pankow 1974) исследовала образ тела при истерическом психозе. Этим она внесла существенный вклад в разграничение истерического и шизофренического психозов. Панкоу проводит различие между первой (обусловленной формой) и второй (обусловленной содержанием) функциями образа тела и делает вывод о том, что в истерическом сумеречном состоянии никогда не возникает угроза чувству целостности тела. “Истерический психоз связан с трудностями идентификации”, причем важное место занимает восприятие тела. Необходимо заметить, что Панкоу усматривает взаимосвязь между структурой семьи и образом тела.
Напоследок мы оставили работу, которая, по нашему мнению, является примечательным достижением современной аналитической литературы. Речь идет о “Методологическом подходе к проблеме истерии” Дж. О. Уиздома (Wisdom 1961). В данном исследовании рассматривается природа истерической символизации. Речь идет о символизации парциальных объектов. Часть символизированного тела вместо того, чтобы использоваться как часть тела, сцепляется с тем, что она символизирует. Тем самым истерик становится неспособным полностью распоряжаться этой частью тела. Подобного рода символ сильно перегружен. Его невозможно заменить тем, что он символизирует. Причина этого в том, что истерик чувствует себя более защищенным символом, чем тем, что он символизирует. В симптоме символизируется травма, причем как угроза, так и реализация желания 13. Следовательно, символическое нарушение функции эквивалентно травме, но не ее последствиям. Любое символическое действие одновременно нацелено на то, чтобы воспрепятствовать удовлетворению желания.
Поскольку собственно использование функции выходит из-под контроля в пользу символического значения, то и символический пенис не может быть заменен использованием реального пениса. Парадокс истерика состоит в том, что сам пенис является фаллическим символом. Эта мысль нуждается в теории второго уровня, которую дает сам Фрейд: конверсию. Травма как дисфункция связана, по Фрейду, с застоем либидо, а именно в соответствии с его теорией “вытеснение — невозможность отвода — телесная символизация”. Для Фрейда эта дисфункция является своего рода удовлетворением. Уиздом же придерживается мнения, что эта попытка удовлетворения терпит крах. Причиной вытеснения, по Фрейду, является эдипов комплекс, эта опорная ось второго уровня психоаналитической теории.
Напротив, центр тяжести работ, появившихся в послефрейдовский период, приходится на догенитальных наклонностях. У авторов, ориентированных на теорию М. Кляйн, вытеснение уступает место шизоидным механизмам. Догенитальные наклонности обнаруживаются в эдиповом комплексе. Тем самым новая оценка истерии требует новой оценки эдипа, как его понимают М. Кляйн и Фэйрбэйрн 14.
Уиздом приходит к заключению: то, чего боится истерик, это не фаллический символ, а символ вагины. Здесь следует вспомнить о том, что для истерика, живущего в мире парциальных объектов, речь идет не столько об отце и матери, сколько о пенисе и вагине. Кроме того, вагина отождествляется с пищей из груди, которая несъедобна из-за таящейся в ней угрозы; ее также нельзя и ассимилировать. Это приводит к парадоксу, в соответствии с которым пенис рассматривается в качестве зачинающего, деструктивного, орального, поглощающего органа. Следовательно, ядерный интроект пениса включает в себя гложущую вагину. Фаллическая фиксация обнаруживает двойственный аспект — деструктивный, поглощающий пенис и феномен “гложущая вагина — грудь — рот”. Но если придерживаться формулировки Ференци, то пенис является фактически пенисом, лишенным всякого смысла. Цель вытеснения — парализовать ядерные интроекты. Замещающее удовлетворение происходит только через проективную идентификацию (а последняя через посредничество реальных или воображаемых других). Фобия, связанная с истерией, представляет собой попытку (осуществляемую через проекцию) vOT-Mcn-wsi -ihöio объекта.. Что касается, отличия от психосоматических синдромов, то в предшествующем случае индивид реагирует на злой объект, поглощая его в истерии.
Эта разъясняющая и основанная на воображении работа страдает, однако, одним методологическим недостатком. Авторский анализ целиком базируется на новой формулировке эдипова комплекса маленького мальчика. Поскольку все статистические данные свидетельствуют о преобладании женской истерии, было бы желательно, чтобы автор разрабатывал свои концепции, исходя из развития женской сексуальности, с которой тесно связана женская истерия. В этом смысле пересмотр представляется нам тем более важным, что женская сексуальность в наши дни является предметом новых интересных оценок (см. статью Н. Шай-несс). Однако мы не сомневаемся в том, что сформулированная Уиздомом точка зрения окажется в этом контексте плодотворной.
СИНТЕЗ
1. Психоанализ в целом проистекает из анализа конверсионной истерии, являющейся отправной точкой открытия Фрейда. В последнее время авторы в известной степени произвели разграничение конверсионной истерии и истерического характера, которые относительно независимы друг от друга.
Истерическая структура представляет собой дефиницию их общего латентного ядра, которое способно проявиться.
2. Роль фаллических фиксаций генитальной истерии (Фрейд) ставится под сомнение современными авторами, которые часто выдвигают идею о догенитальных и прежде всего оральных фиксаций.
В основе этой тенденции лежит тщательный анализ классических картин истерии, а также лучше изученных нетипичных форм истерии, характеризующихся признаками оральной фазы: глубокой зависимостью, токсикофилией, отыгрыванием, депрессивными и суицидальными тенденциями и т.д.
При этом возникает вопрос, не следует ли рассматривать подобные состояния скорее как пограничные, чем формы истерии.
3. Истерическая структура конституируется комплексом представлений и аффектов. Роль, которую играет деятельность фантазии, рассматривается с динамической, топической и экономической точек зрения. Либидинозные и агрессивные импульсы влечений приобретают свой смысл благодаря фантазиям. При этом в результате стимулирования фантазии возникает угроза аффективного усиления влечений, которое вынуждено искать прибежища в симптомах. Что касается всегда живого и особенно интенсивного аффекта, то он может стать самоцелью, из-за чего истерик полностью растворяется в своем аффекте. В таком случае говорят об аффективной булимии. Истерическое желание ведет к неприятной эротизации страха и к наказанию со стороны Сверх-Я.
4. Говорят ли о необходимости модифицировать концепцию Фрейда, помещая конфликт фиксации в догенитальность, или же признают наличие двух (или многих) истерических структур (к этому можно было бы добавить истерические психозы), в любом случае следует соотнести друг с другом эти разнообразные картины болезни, не довольствуясь односторонней генетической точкой зрения. Для меня коренной конфликт истерика кроется в его неспособности через свой сексуальный опыт привести связь с новым объектом, имеющим фаллическое значение, в соответствие с сохранением родительской объектной любви. Чувство потери родительской объектной любви выражается через переживание отделения от первичных объектов (парциальных или целостных), а также через печаль из-за него. Основной сферой выражения этого конфликта является сексуальность, поскольку исполнение сексуального желания, удовлетворение личной" потребности означает преодоление фиксации на родительских объектах — преодоление, которое не может происходить без чувства разлуки и печали. В истерии новые катексисы грозят разрушить старые. Инфантильная сексуальность легко уязвима в силу совершенно неподготовленного вторжения импульсов влечения в Я. Само по себе это является эффектом отделения и расставания, но также отделения и печали из-за отсутствия влечений к родительскому объекту и страха потерять любовь этого объекта и быть им покинутым.
5. Фантазия конституируется в виде катексиса территории Я с целью держать личные стремления объекта на удалении от интериоризированного доныне родительского объекта и одновременно вне его. В то же самое время фантазия закрепляет, хотя и бессознательным образом, в своей ограниченной сфере неотъемлемую связь с желанным родительским объектом (объектом желаний). Однако наличие двух родителей и бисексуальности индивида является причиной того, что в процесс фантазирования не вовлекаются одновременно оба родителя, что невозможно одновременно удовлетворить тому и другому присутствующему в индивиде полу, что объясняется взаимным исключением обоих родителей и сексуальной полярностью в отношении к другому. Важным фактором является амбивалентность индивида в смысле объединения обоих родителей в первосцене, объединения, происходящего в ущерб индивиду, который чувствует себя отстраненным и ненавидит родительскую сексуальность, продуктом которой он является, поскольку становится нежелательным в более поздних сексуальных отношениях. Фантазия, следовательно, сигнализирует одновременно о признании отмены отделения и печали, а также ее отрицания. Позднее, во взрослом возрасте, она служит защитой от каких бы то ни было новых глубоких отношений, таящих в себе опасность поставить под сомнение родительскую фиксацию. В то же самое время она противодействует осуществлению сексуальных стремлений взрослого и автономии, содержащей эти стремления.
Кроме того, фантазия является феноменом, который легче всего мобилизовать при контакте с объектами. Страх оказаться застигнутым врасплох вторжением импульсов влечения, побуждает индивида к антиципаторной эротизации с целью сохранить контроль над объектом. Но таким образом невозможно добиться сексуального удовлетворения. Поэтому истерик постоянно находится в поиске новых эротических отношений, которые непременно должны приносить разочарование. Это объясняется антиципацией утраты (комплекс кастрации), отделением (удалением от объекта) и печалью (отказом от объекта). Эти переживания внушает страх, поскольку способны вызвать деструктивные реакции по отношению к объекту или (в результате инверсии) по отношению к индивиду. Это выражается либо в переживании деперсонализации, либо в попытке самоубийства. Здесь следует подчеркнуть важность отрицания через бегство в (естественный или искусственный) сон, которое зачастую неверно интерпретируется как попытка самоубийства.
7. Таким образом, конверсионную истерию можно понимать как поиск удовлетворения, инвертированного по своему значению и направлению (это означает, что вместо удовольствия, получаемого от внешнего объекта, мы сталкиваемся с неприятным симптомом, заключенным внутри тела), результатом которого является отсутствие насыщения из-за отвода удовольствия. Конверсию можно понимать как особую модальность механизма сгущения. В принявших такую форму фантазиях истерик конденсирует разнообразные идентификации и освоение антагонистических ролей. Однако подобное сгущение — на этом моменте мы настаиваем категорически — является не просто сгущением характерных свойств или представлений, оно прежде всего является сгущением аффектов, способствующих повышению концентрации энергии. Сгущение характерных свойств плюс сгущение (контркатектированных и инвертированных) аффектов равнозначно конверсии. Конверсия поглощает энергию, которая должна быть устранена или расщеплена в самом теле. Этой количественной варианте соответствует качественная варианта, диссоциирующая и упрочающая бессознательное ядро истерии. Но даже если благодаря появлению симптома происходит редукция страха, страх смещается и превращается в страх по поводу — всегда сомнительного — достижения симптома с точки зрения обеспечения защиты.
Сгущение проявляется в качестве механизма, противодействующего как отделению и его аффективным последствиям, так и его специфическим выражениям, которые целиком относятся к утрате объекта. В этом смысле все переживания недостатка находят обоюдный резонанс: данная взаимосвязь простирается от кастрации до утраты груди и наоборот. Отсюда и та аффективная булимии, на которую мы уже указывали. Смещение наверх характеризует топическую регрессию: “в фантазии” вагина уже наделена пенисом, способным найти доступ в тело лишь через ротовую полость; но это как раз тот путь, по которому — по-прежнему в фантазии — происходит оплодотворение. Тем самым фелляция и оральное присвоение груди дополняют друг друга, содействуя осуществлению единственного желания: обладания — фаллического бытия — оплодотворения — в такой последовательности. Ведь истерик и в самом деле может “говорить своей плотью”. Но то, что он желает, не будучи когда-либо удовлетворенным, представляет собой изобилие, которое навсегда избавляет его от недостатка. Неспособный принимать дар другого, истерик живет за счет самопоедания, хотя на первый взгляд складывается впечатление, что он тянет соки из других. Усилия тщетны, ведь ничего из того, что абсорбируется им у другого, он не удерживает — он либо сразу его отвергает, либо эвакуирует, не извлекши из него какой-либо реальной пользы. Вероятность поддержки извне невелика, поскольку он никогда не будет способен осуществить желание обрести счастье через ребенка—пенис—мать или пенис—ребенка—мать. Чего же хочет истерик? Быть ребенком, сосущим грудь, или грудью, которую может сосать ребенок? Здесь нет никакого отделения, поскольку каждое из этих двух состояний является отражением другого и поскольку таким образом возникает отношение целостности.
Тем самым становятся понятными два следствия: десексуализирующая идеализация как желание и поиск совершенного, то есть всеобъемлющего отношения, и приводящее к депрессии их крушение, неизбежное из-за недостаточности другого. Можно задаться вопросом: сможет ли истерик благодаря прогрессу науки, осуждающей в социальном отношении бегство в конверсию, добиться компенсации, выбирая тот же самый путь? И поскольку в силу своей диспозиции он не побуждается ни к действиям (психопатическое ядро), ни к токсикофилии (токсикоманическое ядро), у него, пожалуй, остается лишь депрессивное решение, тем более что истерическая депрессия в отличие от самообвиняющей меланхолической депрессии всегда является обвинением других, и поскольку современная культура рассматривает истерическую депрессию как общепризнанную болезнь цивилизации, объясняя ее более или менее поверхностными причинами, а именно переутомлением, влиянием порождающих страх условий жизни, недостатком возможностей для аффективного обмена в городских общинах и т.д.
8. Истерия была областью мании одержимости. Однако нельзя сказать наверняка, что мы эту область покинули. Присвоение, интроекция и идентификация отсылают нас туда. Мы заменили сверхъестественное объяснение научным, в котором место “духов” заняли образы. В истерии (как, впрочем, и во всех других психопатологических структурах) одержимость двойником или преследователем следует предпочесть тому отчуждению, которое создает невыносимую психическую жизнь, продукт отсутствующего. Специфичность истерии надлежит объяснять тем, что проблемы остаются связанными с половой сферой тела. Из этого мы делаем вывод, что, если во фрейдовской теории господствовала идея о взаимосвязи между истерией и конверсией, то нынешняя теория имеет явную тенденцию к тому, чтобы исследовать связи между истерией и депрессией, эту промежуточную область нарциссических неврозов, лежащую между неврозами переноса и психозами.
а) наличие психотизирующего фактора истерической структуры. С этим фактором сталкиваемся в определенных пограничных состояниях с истерическим аспектом, отличительным признаком которых является постоянная борьба с утратой объекта — борьба, в ходе которой утраченный объект всеми доступными средствами (нимфоманиакальное и мифоманиакальное обольщение, токсикоманиакальное поведение, угроза суицида и т.д.) пытаются заполучить обратно. Психозы деперсонализации, на наш взгляд, также находятся в этих рамкам (см.: Bouvet 1960). Эти состояния могут либо сохранять характер пограничных, либо пероходить в состояния еще более тяжелой декомпенсации;
б) наличие истерического фактора в определенных психозах (см. статью В. Бис-тера в т. И). Огромное множество острых маниакальных психозов обращает на себя внимание как неожиданностью появления, так и эффективностью их лечения, которое все же подвержено периодическим неудачам. Что же касается хронических структур, то некоторые из них (бред отношения и даже параноидная шизофрения) имеют четко выраженный истерический оттенок. В этом последнем случае складывается впечатление, что истероидные формы психоза с точки зрения прогноза являются более благоприятными.
10. Зачастую проводится параллель между истерией и психосоматикой. Подчеркивалось отсутствие — связанной прежде всего с фантазиями — функции представлений (см. статью Я. Бастиаанса в т. II). Здесь речь идет не столько о глобальном, сколько о функциональном недостатке. В психической экономике фантазия уже не играет роль посредника. В тяжелых случаях психосоматический синдром сопровождается действительным нарушением мышления, изменяющим первичный процесс и сопоставимым с признаками отрицания, с которыми приходится сталкиваться в наблюдаемой реальности психозов. Психосоматическое заболевание в этом случае следует понимать как проигрывание внутри (acting in), нацеленное на тело.
Если в заключение мы обратимся к культурным феноменам, свидетелем которых вне своей аналитической работы является сегодня аналитик, но которые вместе с тем он рассматривает все же через косвенную перспективу, то нам следует задаться вопросом, не являются ли ныне определенные факты (например широкая известность, которой обладает эротизм, склонность к наркотикам, более или менее эндемичные вспышки насилия) формами социального выражения истерии. Их анализ, наверное, бы показал, что с точки зрения классической истерической патологии они являются именно тем, что представляет собой поверхностная истеризция по отношению к глубокой эротизации. Первое выставляется напоказ и используется в качестве защиты с тем, чтобы лучше замаскировать второе — то есть страх. Задача аналитика состоит в том, чтобы не допустить втягивания себя в эту игру, точно так же как в свое время этого не должен был позволить истерикам Фрейд. И хотя Фрейд поставил нас на путь решения загадки истерии, сам он отчасти стал жертвой соблазнов обманных игр истерика, маскирующих страх последнего перед пустотой. Без преувеличения можно утверждать, что потребуется еще много труда, чтобга прояснить тайну истерии.
Далекая от того, чтобы навсегда исчезнуть из нашего бытия, истерия приспособилась к нашему времени и как и прежде продолжает существовать среди нас в искаженной форме.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Ср. рецензию важных психопатологических работ и детальное исследование Лемперьера.
2 Под конверсией понимают возникновение телесных недугов как выражение аффективных переживаний.
3 Для истерических пациентов оказалась особенно типичной установка belle indifference, с помощью которой они защищаются от проникновения в их внутреннюю жизнь.
4 Относящаяся к тому времени статья Фрейда (“К вопросу об этиологии истерии”) повторяет формулировки “Очерков об истерии”.
5 Ср. посвященный истерии номер Revue Francaise de Psychoanalyse, 37, 1973.
Работы Андре Грина были созданы под впечатлением от работ Hery Ey, который работал там с 1925 по 1965 год. В 1956 году он начал четырехлетний анализ с Морисом Буве. После смерти Буве он провел анализ с Жаном Малле, а затем с Кэтрин Парат. Он участвовал в семинарах Лакана в течение семи лет.
6. Концепт «белый психоз» находится в переводе на сайте psihoanalitiki.kiev.ua.
Биография Андре Грина
Андре Грин родился в 1927 году в Египте. В 1946 году, уже увлеченный психиатрией, он отправился в Париж, чтобы изучить медицину, завершив экзамены по психиатрии в 1953 году. Он установил связи с больницей Св. Анны, уникальным центром того времени для междисциплинарных встреч между психиатрами, психологами и антропологами.
В 1965 году, после завершения тренингового анализа, Грин стал членом Парижского психоаналитического общества (SPP), президентом которого он был с 1986 по 1989 год. С 1975 по 1977 год он был вице-президентом Международной психоаналитической ассоциации, а с 1979 года до 1980 Freud Memorial Professor в Университетском колледже Лондона. Он был избран почетным членом Британского психоаналитического общества.
Две главные темы пронизывают сочинения Грина: актуальность отцовства, вытекающего из работ Лакана, а другая – озабоченность взимоотношениями с матерью, сформированная из личного опыта Грина и работ Винникотта и Биона.
В течение своей жизни Грин провел мастерски и научный диалог с философами, учеными и антропологами. В этой работе есть многочисленные мысли, такие как связь между удовольствием жизни и возвращением вытесненного, или феномен ретроактивной реверберации (упреждающее оповещение) в аналитическом слушании. Основные темы его работы сосредоточены на теории аффектов, теории представления и языка, работе отрицательного (с его созвездием таких понятий, как “мертвая мать”, “нарциссизм смерти”, “белый психоз” и “отрицательная галлюцинация”), нарциссизм и пограничные состояния, объективационная функция, риангуляция и метапсихологическая теория временности. Кроме того, он написал ряд работ по прикладному психоанализу. По словам Грина, целью психоаналитического процесса является не столько осознание, сколько осознание бессознательного.
В 1975 году Грин заявил: «Аналитический объект не является ни внутренним (анализанта или аналитика), ни внешним (того или другого), но он находится между ними». В сеансе аналитический объект похож на третий объект, продукт встречи анализируемого и аналитика.
Грин предполагает, что в некоторых школах мысли, где анализ ограничивается интерпретацией переноса, существует ограниченная аналитическая задача, которая наносит ущерб свободе и спонтанности дискурса и представляет собой возврат к внушению. Он считал, что все интерпретации происходят в контексте переноса (le cadre du transfert), даже если они не ссылаются на него. Более того, весь материал в любом анализе содержит элементы, относящиеся к разным временным измерениям.
В аналитическом процессе аналитик сталкивается с фундаментальным опытом бедствия (hilflosigkeit) у пациента. Контрперенос аналитика восприимчив к следам, оставленным этими инфантильными переживаниями. Предлагая пациенту отказаться от механизмов контроля, аналитическая ситуация может оживить травматическую ситуацию.
Андре Грин был одним из самых важных психоаналитических мыслителей нашего времени и создал свою собственную теорию психоанализа. Эта теория включает в себя фрейдистскую метапсихологию, но еще больше подталкивает психоаналитическое мышление к теории психотических конфигураций и теории того, что не достигло представления или не представлено. Мышление связано с отсутствием, а также с сексуальностью. Психоаналитическую структуру Андре Грина можно рассматривать как теорию градиентов(частей), где общая теория важнее любой из ее частей. Любой из терминов может представлять целое, но это все, что нужно учитывать.
Rosine Perelberg 2015, перевод и редакция СлободянюкЕ. А.
Работы Андре Грина на английском языке:
Green, A. (1975). Orestes and Oedipus. Int. Rev. Psycho-Anal., 2:355-364.
Green, A. (1986). The Dead Mother. In On Private Madness. London: The Hogarth Press and The Institute of Psychoanalysis, pp. 142-173.
Green, A. (1997). The Intuition of the Negative in Playing And Reality. Int. J. Psycho-Anal., 78:1071-1084.
Green, A. (1998b). The Primordial Mind and the Work of the Negative. Int. J. Psycho-Anal., 79:649-665.
Green, A. (2000). The Central Phobic Position. Int. J. Psycho-Anal., 81:429-451.
Green, A. (2004). Thirdness and Psychoanalytic Concepts. Psychoanal. Q., 73:99-135.
Books:
Green, A. (1986). On Private Madness. London: The Hogarth Press and The Institute of Psychoanalysis.
Green, A. (1999a) The Work of the Negative. London: Free Association Books.
Green, A. (1999b). The Fabric of Affect in Psychoanalytic Discourse. London: Routledge and The New Library of Psychoanalysis.
Green, A. (2001). Life Narcissism, Death Narcissism. . London: Free Association Books.
Green, A. (2002). Time in Psychoanalysis. London: Free Associations Books.
Green, A. (2002). Idées Directrices pour une Psychanalyse Contemporaine. Paris: PUF.
Green, A. (2011). Illusions and Disillusions of Psychoanalytic Work. London: Karnac.
Green, A. (2011). The Tragic Effect: The Oedipus Complex in Tragedy. Cambridge: Cambridge University Press.
Green, A. and Kohon, G. (2005). Love and its Vicissitudes. London: Routledge.
Комплекс мертвой матери — откровение переноса. Основные жалобы и симптомы, с которыми субъект вначале обращается к психоаналитику, не носят депрессивного характера. Симптоматика эта большей частью сводится к неудачам в аффективной, любовной и профессиональной жизни, осложняясь более или менее острыми конфликтами с ближайшим окружением. Нередко бывает, что, спонтанно рассказывая историю своей личной жизни, пациент невольно заставляет психоаналитика задуматься о депрессии, которая должна бы или могла бы иметь место там и в то время в детстве [больного], [о той депрессии], которой сам субъект не придает значения. Эта депрессия [лишь] иногда, спорадически достигавшая клинического уровня [в прошлом], станет очевидной только в переносе. Что до наличных симптомов классических неврозов, то они имеют второстепенное значение, или даже, если они и выражены, у психоаналитика возникает ощущение, что анализ их генеза не даст ключа к разгадке конфликта.
Андре Грин. Мертвая мать.
Посвящается Катрин Пара
Если бы понадобилось выбрать только одну черту явного различия между тем, как проводят психоанализ сегодня и как, насколько мы можем себе это представить, его [проводили]1 в былое время, то все, вероятно, согласились бы, что оно [это различие] сосредоточено вокруг проблематики горя.
Именно на это и указывает заголовок данного очерка: мертвая мать. Однако, дабы избежать всякого недоразумения, я уточню, что эта работа не рассматривает психические последствия реальной смерти матери; но скорее [трактует вопрос] о некоем имаго, складывающемся в психике ребенка вследствие материнской депрессии, [имаго], грубо преображающем живой объект, источник жизненности для ребенка, - в удаленную атоничную, почти безжизненную фигуру; [имаго], очень глубоко пропитывающем инвестиции некоторых субъектов, которых мы анализируем; и [имаго], тяготеющем над их судьбой и над их будущим - либидинозным, объектным и нарциссическим. Мертвая мать здесь, вопреки тому, что можно было бы ожидать, - это мать, которая остается в живых; но в глазах маленького ребенка, о котором она заботится, она, так сказать, - мертва психически.
Последствия реальной смерти матери - особенно если эта смерть является следствием суицида - наносят тяжелый ущерб ребенку, которого она оставляет после себя. Симптоматика, которая здесь развивается, непосредственно увязывается с этим событием, даже если в дальнейшем психоанализ и должен обнаружить, что непоправимость такой катастрофы не связана причинно лишь с той связью мать-ребенок, которая предшествовала смерти. Возможно, случится так, что и в этих случаях можно было бы описать тип отношений, близкий к тому, о котором я собираюсь говорить. Но реальность потери, ее окончательный и необратимый характер изменили бы задним числом и предшествующие отношения с объектом. Поэтому я не стану обсуждать конфликты, связанные с этой ситуацией. Также я не буду говорить об анализах тех пациентов, которые искали помощь психоаналитика по поводу явно депрессивной симптоматики.В действительности для анализантов, о которых я собираюсь рассказать, в ходе предварительных бесед совершенно не характерно выдвигать на первый план среди причин, побуждающих их пойти на психоанализ, какие бы то ни было депрессивные черты. Зато психоаналитиком сразу же ощущается нарциссическая природа упоминаемых [ими] конфликтов, имеющих черты невроза характера и его последствий для [их] любовной жизни и профессиональной деятельности.
Эта вступительная часть ограничивает методом исключения клинические рамки того, о чем я собираюсь трактовать. Мне надо кратко упомянуть некоторые ссылки, которые были вторым источником - мои пациенты были первым - моих размышлений. Дальнейшие рассуждения во многом обязаны тем авторам, которые заложили основы всякого знания о проблематике горя: Зигмунд Фрейд, Карл Абрахам и Мелани Кляйн. Но главным образом на путь меня навели новейшие исследования Дональда Винникотта", Хайнца Кохута2, Николя Абрахама3 и Марьи Торок4, а также Ги Розолато5.
Итак, вот отправные постулаты для моих рассуждений:
Психоаналитическая теория в своем наиболее общепринятом виде признает два постулата: первый - это постулат потери объекта как основного момента структурирования человеческой психики, в ходе которого устанавливается новое отношение к действительности. С этих пор психика будет управляться принципом реальности, который начинает главенствовать над принципом удовольствия, хотя и его [принцип удовольствия] она [психика], впрочем, тоже сохраняет. Этот первый постулат представляет собой теоретическую концепцию, а не факт наблюдения, так как оное [наблюдение] показало бы нам скорее последовательную эволюцию, чем мутационный скачок. Второй общепризнанный большинством авторов постулат - [постулат] о депрессивной позиции, в различной интерпретации у тех и у других. Этот второй постулат объединяет факт наблюдения с теоретическими концепциями Мелани Кляйн и Дональда Винникотта. Следует подчеркнуть, что эти два постулата связаны с общей ситуацией [удела человеческого] и отсылают нас к неизбежному событию онтогенеза. Если предшествующие нарушения в отношениях между матерью и ребенком затрудняют и переживание [потери объекта] и преодоление [депрессивной позиции], [то даже] отсутствие таких нарушений и хорошее качество материнского ухода не могут избавить ребенка от [необходимости переживания и преодоления] этого периода, который для его психической организации играет структурирующую роль.Впрочем, есть пациенты, которые, какую бы [клиническую] структуру они не представляли, кажется, страдают от персистирования симптомов депрессии, более или менее рекуррентной и более или менее инвалидизирующей, но, кажется, выходящей за рамки нормальных депрессивных реакций, таких, от которых периодически страдает каждый. Ибо мы знаем, что игнорирующий [свою] депрессию субъект, вероятно, более нарушен, чем тот, кто переживает ее [депрессию] от случая к случаю.
Итак, я задаюсь здесь следующим вопросом: "Какую можно установить связь между потерей объекта и депрессивной позицией, как общими [исходными] данными, и своеобразием [описываемого] депрессивного симптомокомплекса, [клинически] центрального, но часто тонущего среди другой симптоматики, которая его более или менее маскирует? Какие [психические] процессы развиваются вокруг этого [депрессивного] центра? Из чего строится этот [депрессивный] центр в психической реальности [больного]?"
Мертвый отец и мертвая мать
Основываясь на интерпретации фрейдовской мысли, психоаналитическая теория отвела главное место концепции мертвого отца, фундаментальное значение которого в генезе Сверх-Я подчеркнуто в "Тотем и табу". Эдипов комплекс здесь рассматривается не просто как стадия либидинозного развития, но как [внутрипсихическая] структура; такая теоретическая позиция обладает своей внутренней цельностью. Из нее проистекает целый концептуальный ансамбль: Сверх-Я в классической теории, Закон и Символика в лакановской мысли. Кастрация и сублимация, как судьба влечений, внутренне связывают этот ансамбль общими референциями.
Мертвую мать, напротив, никто никогда не рассматривал со структурной точки зрения. В некоторых случаях на нее можно найти отдельные намеки, как в анализе [творчества] Эдгара По у Мари Бонапарт, где речь идет о частном случае ранней потери матери. Но узкий реализм [авторской] точки зрения накладывает [и] здесь [свои] ограничения. Такое пренебрежение [мертвой матерью] невозможно объяснить, исходя из эдиповой ситуации, поскольку эта тема должна была бы возникнуть либо в связи с Эдиповым комплексом девочки, либо в связи с негативным Эдиповым комплексом у мальчика. На самом деле дело в другом. Матереубийство не подразумевает мертвой матери, напротив; что же до концепции мертвого отца, то она поддерживает референции предков, филиации, генеалогии, отсылает к первобытному преступлению и к виновности, из него проистекающей.
Поразительно, однако, что [психоаналитическая] модель горя, лежащая в основе излагаемой концепции, никак не упоминает ни горе по матери, ни горе по отнятию от груди. Если я упоминаю эту модель, то не только потому, что она предшествовала нижеизложенной концепции, но и потому, что следует констатировать отсутствие между ними прямой связи.
Фрейд в работе "Торможение, симптом и тревога" релятивизировал кастрационную тревогу, включив ее в серию, содержащую равным образом тревогу от потери любви объекта, тревогу перед угрозой потери объекта, тревогу перед Сверх-Я и тревогу от потери покровительства Сверх-Я. При этом известно, какую важность он придавал проведению различий между тревогой, болью и горем.В мои намерения не входит подробно обсуждать мысли Фрейда по данному вопросу - углубление комментария увело бы меня от темы - но хочу сделать одно замечание. Есть тревога кастрационная и тревога вытеснения. С одной стороны, Фрейд хорошо знал, что наряду и с одной и с другой существуют много как иных форм тревоги, так и разных видов вытеснения или даже прочих механизмов защиты. В обоих случаях он допускает существование хронологически более ранних форм и тревоги, и вытеснения. И все-таки, в обоих случаях именно они - кастрационная тревога и вытеснение - занимают [у Фрейда] центральное место, и по отношению к ним рассматриваются все иные типы тревоги и различные виды вытеснения, будь то более ранние или более поздние; фрейдовская мысль показывает здесь свой [двоякий] характер, [в осмыслении психопатологии] столь же структурирующий, сколь и генетический. Характер, который проступит еще более явно, когда он [Фрейд] превратит Эдипа в первофантазию, относительно независимую от конъюнктурных случайностей, образующих специфику данного пациента. Так, даже в тех случаях, когда он [Фрейд] констатирует негативный Эдипов комплекс, как у Сергея Панкеева", он [Фрейд] будет утверждать, что отец, объект пассивных эротических желаний пациента, остается, тем не менее, кастратором.
Эта структурная функция [кастрационной тревоги] подразумевает концепцию становления психического порядка, программируемого первофантазиями. Эпигоны Фрейда не всегда следовали за ним по этому пути. Но кажется, что французская психоаналитическая мысль в целом, несмотря на все разногласия, последовала в этом вопросе за Фрейдом. С одной стороны, референтная модель кастрации обязывала авторов, осмелюсь так выразиться, "кастратизировать" все прочие формы тревоги; в таких случаях начинали говорить, например, об анальной или нарциссической кастрации. С другой стороны, давая антропологическую интерпретацию теории Фрейда, все разновидности тревоги сводили к концепции нехватки в теории Лакана. Я полагаю, однако, что спасение концептуального единства и общности в обоих случаях шло во вред, как практике, так и теории.
Показалось бы странным, если бы по этому вопросу я выступил с отказом от структурной точки зрения, которую всегда защищал. Вот почему я не стану присоединяться к тем, кто подразделяет тревогу на различные виды по времени ее проявления в разные периоды жизни субъекта; но предложу скорее структурную концепцию, которая организуется вокруг не единого центра (или парадигмы), а вокруг, по крайней мере, двух таких центров (или парадигм), в соответствии с особенным характером каждого из них, отличным от тех [центров или парадигм], что предлагали до сих пор.
Вполне обоснованно считается, что кастрационная тревога структурирует весь ансамбль тревог, связанных с "маленькой вещицей, отделенной от тела", идет ли речь о пенисе, о фекалиях или о ребенке. Этот класс [тревог] объединяется постоянным упоминанием кастрации в контексте членовредительства, ассоциирующегося с кровопролитием. Я придаю большее значение "красному" аспекту этой тревоги, нежели ее связи с парциальным объектом.
Напротив, когда речь заходит о концепции потери груди или потери объекта, или об угрозах, связанных с потерей или с покровительством Сверх-Я, или, в общем, обо всех угрозах покинутости, контекст никогда не бывает кровавым. Конечно, все формы тревоги сопровождаются деструктивностью, кастрация тоже, поскольку рана - всегда результат деструкции. Но эта деструктивность не имеет ничего общего с кровавой мутиляцией. Она - траурных цветов: черная или белая. Черная, как тяжелая депрессия; белая, как те состояния пустоты, которым теперь так обоснованно уделяют внимание.
Моя гипотеза состоит в том, что мрачная чернота депрессии, которую мы можем законно отнести за счет ненависти, обнаруживающейся на психоанализе депрессивных больных, является только вторичным продуктом, скорее, следствием, чем причиной "белой" тревоги, выдающей потерю; [потерю], понесенную на нарциссическом уровне.
Я не стану возвращаться к тому, что полагаю уже известным из моих описаний негативной галлюцинации и белого психоза, и отнесу белую тревогу или белое горе к этой же серии. "Белая" серия - негативная галлюцинация, белый психоз и белое горе, все относящееся к тому, что можно было бы назвать клиникой пустоты или клиникой негатива, - является результатом одной из составляющих первичного вытеснения, а именно: массивной радикальной дезинвестиции, оставляющей в несознательном следы в виде "психических дыр", которые будут заполнены реинвестициями, [но эти реинвестиции станут только] выражением деструктивности, освобожденной таким ослаблением либидинозной эротики.
Манифестация ненависти и последующие процессы репарации суть вторичные проявления центральной дезинвестиции первичного материнского объекта. Понятно, что такой взгляд меняет все, вплоть до техники психоанализа, поскольку [теперь ясно, что всякое] самоограничение [психоаналитика] при истолковании ненависти в структурах с депрессивными чертами приводит лишь к тому, что первичное ядро этого образования навсегда остается нетронутым.
Эдипов комплекс должен быть сохранен как незаменимая символическая мат-Рица, которая навсегда остается для нас важнейшей референцией, даже в тех случаях, когда говорят о прегенитальной или преэдиповой регрессии, ибо эта референция имплицитно отсылает нас к аксиоматической триангуляции. Как бы глубоко не продвинулся психоанализ дезинвестиций первичного объекта, судьба человеческой психики состоит в том, чтобы всегда иметь два объекта и никогда - один; насколько бы далеко ни заходили попытки проследить концепцию первобытного (филогенетического) Эдипова комплекса, отец, как таковой, присутствует и там, пусть даже в виде своего пениса (я подразумеваю архаическую концепцию Мелани Кляйн отцовского пениса в животе матери). Отец, он - здесь одновременно и с матерью, и с ребенком, и с самого начала. Точнее, между матерью и ребенком. Со стороны матери это выражается в ее желании к отцу, реализацией которого является ребенок. Со стороны ребенка все, что предвосхищает существование третьего, всякий раз, когда мать присутствует не полностью, и [всякий раз, когда] инвестиция ребенка ею, не является ни тотальной, ни абсолютной; [тогда, всякий раз], по меньшей мере, в иллюзиях, которые ребенок питает в отношении матери до того, что принято называть потерей объекта, [все это] будет, в последействии, связано с отцом.
Таким образом, можно понять непрерывность связей между этой метафорической потерей груди, [последующей] символической мутацией отношений между удовольствием и реальностью (возводимой последействием в принципы), с запретом инцеста и с двойным изображением образов матери и отца, потенциально соединенных в фантазии гипотетической первосцены, задуманной вне субъекта, в которой субъект отсутствует и учреждается в отсутствие [своего] аффективного представления, что [зато потом] порождает [его] фантазию, продукцию [его] субъективного "безумия".
К чему эта метафоричность? Обращение к метафоре, незаменимое для любого существенного элемента психоаналитической теории, [становится] здесь особенно необходимым. В предыдущей работе я отмечал существование у Фрейда двух версий потери груди. Первая версия, теоретическая и концептуальная, изложена в его статье об "отнекивании" Фрейд здесь говорит [о потери груди], как об основном, уникальном, мгновенном и решающем событии; поистине можно сказать, что это событие [впоследствии] оказывает фундаментальное воздействие на функцию суждения. Зато в "Кратком очерке психоанализа" он занимает скорее описательную, чем теоретическую позицию, как будто занялся столь модными ныне наблюдениями младенцев. Здесь он трактует данный феномен не теоретически, а, если можно так выразиться, "повествовательно", где становится понятно, что такая потеря есть процесс постепенной, шаг за шагом, эволюции. Однако, на мой взгляд, описательный и теоретический подходы взаимно исключают друг друга, так же как в теории взаимно исключаются восприятие и память. Обращение к такому сравнению - не просто аналогия. В "теории", которую субъект разрабатывает относительно самого себя, мутационное истолкование всегда ретроспективно. [Лишь] в последействии формируется та теория потерянного объекта, которая так и обретает свой характер основополагающей, единственной, мгновенной, решающей и, осмелюсь так сказать, сокрушительной [потери].Обращение к метафоре оправдано не только с диахронической точки зрения, но и с синхронической. Самые ярые сторонники референций груди в современном психоанализе, кляйнианцы, признают теперь, смиренно добавляя воды в свое вино, что грудь - не более чем слово для обозначения матери, к удовольствию некляйнианских теоретиков, которые часто психологизируют психоанализ. Нужно сохранить метафору груди, поскольку грудь, как и пенис, не может быть только символической. Каким бы интенсивным не было удовольствие сосания, связанного с соском или с соской, эрогенное удовольствие властно вернуть себе в матери и все, что не есть грудь: ее запах, кожу, взгляд и тысячу других компонентов, из которых "сделана" мать. Метонимический объект становится метафорой объекта.
Между прочим, можно заметить, что у нас не возникает никаких затруднений рассуждать сходным образом, когда мы говорим и о любовных сексуальных отношениях, сводя весь ансамбль, в общем-то, довольно сложных отношений, на копуляцию пенис - вагина и соотнося [все] пертурбации [этого ансамбля] с кастрационной тревогой.
Понятно тогда, что, углубляясь в проблемы, связанные с мертвой матерью, я отношусь к ней как к метафоре, независимой от горя по реальному объекту.
Комплекс мертвой матери
Комплекс мертвой матери - откровение переноса. Основные жалобы и симптомы, с которыми субъект вначале обращается к психоаналитику, не носят депрессивного характера. Симптоматика эта большей частью сводится к неудачам в аффективной, любовной и профессиональной жизни, осложняясь более или менее острыми конфликтами с ближайшим окружением. Нередко бывает, что, спонтанно рассказывая историю своей личной жизни, пациент невольно заставляет психоаналитика задуматься о депрессии, которая должна бы или могла бы иметь место там и в то время в детстве [больного], [о той депрессии], которой сам субъект не придает значения. Эта депрессия [лишь] иногда, спорадически достигавшая клинического уровня [в прошлом], станет очевидной только в переносе. Что до наличных симптомов классических неврозов, то они имеют второстепенное значение, или даже, если они и выражены, у психоаналитика возникает ощущение, что анализ их генеза не даст ключа к разгадке конфликта. На первый план, напротив, выступает нарциссическая проблематика, в рамках которой требования Идеала Я непомерны, в синергии либо в оппозиции к Сверх-Я. Налицо ощущение бессилия. Бессилия выйти из конфликтной ситуации, бессилия любить, воспользоваться своими дарованиями, преумножать свои достижения или же, если таковые имели место, глубокая неудовлетворенность их результатами.
Когда же психоанализ начнется, то перенос открывает иногда довольно скоро, но чаще всего после долгих лет психоанализа единственную в своем роде депрессию. У психоаналитика возникает чувство несоответствия между депрессией переноса (термин, предлагаемый мною для этого случая, чтобы противопоставить его неврозу переноса) и внешним поведением [больного], которое депрессия не затрагивает, поскольку ничто не указывает на то, чтобы она стала очевидна для окружения [больного], что, впрочем, не мешает его близким страдать от тех объектных отношений, которые навязывает им анализант.
Эта депрессия переноса не указывает ни на что другое как на повторение инфантильной депрессии, характерные черты которой я считаю полезным уточнить.
Здесь речь не идет о депрессии от реальной потери объекта, [то есть], я хочу сказать, что дело не в проблеме реального разделения с объектом, покинувшим субъекта. Такой факт может иметь место, но не он лежит в основе комплекса мертвой матери.Основная черта этой депрессии в том, что она развивается в присутствии объекта, погруженного в свое горе. Мать, по той или иной причине, впала в депрессию. Разнообразие этиологических факторов здесь очень велико. Разумеется, среди главных причин такой материнской депрессии мы находим потерю любимого объекта: ребенка, родственника, близкого друга или любого другого объекта, сильно инвестированного матерью. Но речь также может идти о депрессии разочарования, наносящего нарциссическую рану: превратности судьбы в собственной семье или в семье родителей; любовная связь отца, бросающего мать; унижение и т. п. В любом случае, на первом плане стоят грусть матери и уменьшение [ее] интереса к ребенку.
Важно подчеркнуть, что, как [уже] поняли все авторы, самый тяжелый случай - это смерть [другого] ребенка в раннем возрасте. Я же особо настоятельно хочу указать на такую причину [материнской депрессии], которая полностью ускользает от ребенка, поскольку [вначале ему] не хватает данных, по которым он мог бы о ней [этой причине] узнать, [и постольку] ее ретроспективное распознание [остается] навсегда невозможно, ибо она [эта причина] держится в тайне, [а именно], - выкидыш у матери, который в анализе приходится реконструировать по мельчайшим признакам. [Эта] гипотетическая, разумеется, конструкция [о выкидыше только и] придает связность [различным] проявлениям [аналитического] материала, относимого [самим] субъектом к последующей истории [своей жизни].
Тогда и происходит резкое, действительно мутационное, изменение материнского имаго. Наличие у субъекта подлинной живости, внезапно остановленной [в развитии], научившейся цепляться и застывшей в [этом] оцепенении, свидетельствует о том, что до некоторых пор с матерью [у него] завязывались отношения счастливые и [аффективно] богатые. Ребенок чувствовал себя любимым, несмотря на все непредвиденные случайности, которых не исключают даже самые идеальные отношения. С фотографий в семейном альбоме [на нас] смотрит веселый, бодрый, любознательный младенец, полный [нераскрытых] способностей, в то время как более поздние фото свидетельствуют о потере этого первичного счастья. Всё будет покончено, как с исчезнувшими цивилизациями, причину гибели которых тщетно ищут историки, выдвигая гипотезу о сейсмическом толчке, который разрушил дворец, храм, здания и жилища, от которых не осталось ничего, кроме руин. Здесь же катастрофа ограничивается [формированием] холодного ядра, которое [хоть и] будет обойдено в дальнейшем [развитии], но оставляет неизгладимый след в эротических инвестициях рассматриваемых субъектов.
Трансформация психической жизни ребенка в момент резкой дезинвестиции его матерью при [её] внезапном горе переживается им, как катастрофа. Ничто ведь не предвещало, чтобы любовь была утрачена так враз. Не нужно долго объяснять, какую нарциссическую травму представляет собой такая перемена. Следует, однако, подчеркнуть, что она [травма] состоит в преждевременном разочаровании и влечет за собой, кроме потери любви, потерю смысла, поскольку младенец не находит никакого объяснения, позволяющего понять произошедшее. Понятно, что если он [ребенок] переживает себя как центр материнской вселенной, то, конечно же, он истолкует это разочарование как последствие своих влечений к объекту. Особенно неблагоприятно, если комплекс мертвой матери развивается в момент открытия ребенком существование третьего, отца, и если новая инвестиция будет им истолкована как причина материнской дезинвестиции. Как бы то ни было, триангуляция в этих случаях складывается преждевременно и неудачно. Поскольку либо, как я только что сказал, уменьшение материнской любви приписывается инвестиции матерью отца, либо это уменьшение [ее любви] спровоцирует особенно интенсивную и преждевременную инвестицию отца как спасителя от конфликта, разыгрывающегося между ребенком и матерью. В реальности, однако, отец чаще всего не откликается на беспомощность ребенка. Вот так субъект и [оказывается] зажат между: матерью - мертвой, а отцом - недоступным, будь то отец, более всего озабоченный состоянием матери, но не приходящий на помощь ребенку, или будь то отец, оставляющий обоих, и мать и дитя, самим выбираться из этой ситуации.
После того как ребенок делал напрасные попытки репарации матери, поглощенной своим горем и дающей ему почувствовать всю меру его бессилия, после того как он пережил и потерю материнской любви, и угрозу потери самой матери и боролся с тревогой разными активными средствами, такими как ажитация, бессонница или ночные страхи, Я применит серию защит другого рода.
Первой и самой важной [защитой] станет [душевное] движение, единое в двух лицах: дезинвестиция материнского объекта и несознательная идентификация с мертвой матерью. В основном аффективная, дезинвестиция эта [касается] также и [психических] представлений и является психическим убийством объекта, совершаемым без ненависти. Понятно, что материнская скорбь запрещает всякое возникновение и [малой] доли ненависти, способной нанести еще больший ущерб ее образу. Эта операция по дезинвестиции материнского образа не вытекает из каких бы то ни было разрушительных влечений, [но] в результате на ткани объектных отношений с матерью образуется дыра; [все] это не мешает поддержанию [у ребенка] периферических инвестиций [матери]; так же как и мать продолжает его любить и продолжает им заниматься, [даже] чувствуя себя бессильной полюбить [его] в [своем] горе, так изменившем ее базовую установку в отношении ребенка. [Но] все-таки, как говорится, "сердце к нему не лежит". Другая сторона дезинвестиции состоит в первичной идентификации с объектом. Зеркальная идентификация становится почти облигатной после того, как реакции комплиментарности (искусственная веселость, ажитация и т. п.) потерпели неудачу. Реакционная симметрия - по типу [проявления] симпатии [к ее реакциям] - оказывается [здесь] единственно возможным средством восстановления близости с матерью. Но не в подлинной репарации [материнского объекта] состоит реальная цель [такого] миметизма, а в том, чтобы сохранить [уже] невозможное обладание объектом, иметь его, становясь не таким же, как он [объект], а им самим. Идентификация - условие и отказа от объекта, и его в то же время сохранения по каннибальскому типу - заведомо несознательна. Такая идентификация [вкупе с дезинвестицией] происходит без ведома Я-субъекта и против его воли; в этом [и состоит ее] отличие от иных, в дальнейшем [столь же] несознательно происходящих, дезинвестиций, поскольку эти другие случаи предполагают избавление [субъекта] от объекта, [при этом] изъятие [объектных инвестиций] обращается в пользу [субъекта]. Отсюда - и ее [идентификации] отчуждающий характер. В дальнейших объектных отношениях субъект, став жертвой навязчивого повторения, будет, повторяя прежнюю защиту, активно дезинвестировать [любой] объект, рискующий [его, субъекта] разочаровать, но что останется для него полностью несознательным, так это [его] идентификация с мертвой матерью, с которой отныне он будет соединен в дезинвестиции следов травмы.
Вторым фактом является, как я [уже] подчеркивал, потеря смысла. "Конструкция" груди, которой удовольствие является и причиной, и целью, и гарантом, враз и без причины рухнула. Даже вообразив себе выворачивание ситуации субъектом, который в негативной мегаломании приписывает себе ответственность за перемену, остается непроходимая пропасть между проступком, в совершении которого субъект мог бы себя упрекнуть, и интенсивностью материнской реакции. Самое большее, до чего он сможет додуматься, что, скорее, чем с каким бы то ни было запретным желанием, проступок сей связан с его [субъекта] образом бытия; действительно, отныне ему запрещено быть. Ввиду уязвимости материнского образа, внешнее выражение деструктивной агрессивности невозможно; такое положение [вещей], которое [иначе] бы толкало ребенка к тому, чтобы дать себе умереть, вынуждает его найти ответственного за мрачное настроение матери, буде то [даже] козел отпущения. На эту роль назначается отец. В любом случае, я повторяю, складывается преждевременная триангуляция, в которой присутствуют ребенок, мать и неизвестный объект материнского горя. Неизвестный объект горя и отец тогда сгущаются, формируя у ребенка ранний Эдипов комплекс.
Вся эта ситуация, связанная с потерей смысла, влечет за собой открытие второго фронта защит.Развитие вторичной ненависти, которая не является [продолжением] ни первичной, ни фундаментальной; [вторичной ненависти], проступающей в желаниях регрессивной инкорпорации, и при этом - с окрашенных маниакальным садизмом анальных позиций, где речь идет о том, чтобы властвовать над объектом, осквернять его, мстить ему и т. п.
Аутоэротическое возбуждение состоит в поиске чистого чувственного удовольствия, почти что удовольствия органа, без нежности, без жалости, не обязательно сопровождаясь садистскими фантазиями, но оставаясь [навсегда] отмеченным сдержанностью в [своей] любви к объекту. Эта [сдержанность] послужит основой будущих истерических идентификаций. Имеет место преждевременная диссоциация между телом и душой, между чувственностью и нежностью, и блокада любви. Объект ищут по его способности запустить изолированное наслаждение одной или нескольких эрогенных зон, без слияния во взаимном наслаждении двух более или менее целостных объектов.Наконец, и самое главное, поиск потерянного смысла структурирует преждевременное развитие фантазматических и интеллектуальных способностей Я. Развитие бешеной игровой деятельности происходит не в свободе играть, а в принуждении воображать, так же как интеллектуальное развитие вписывается в принуждение думать. Результативность и ауторепарация идут рука об руку в достижении одной цели: превозмогая смятение от потери груди и сохраняя эту способность, создать грудь-переноску, лоскут когнитивной ткани, предназначенный замаскировать дезинвестиционную дыру, в то время как вторичная ненависть и эротическое возбуждение бурлят у бездны на краю. Такая сверхинвестированная интеллектуальная активность необходимо несет с собой значительную долю проекции. Вопреки обычно распространенному мнению, проекция - не всегда [подразумевает] ложное суждение. Проекция определяется не истинностью или ложностью того, что проецируется, а операцией, заключающейся в том, чтобы перенести на внешнюю сцену (пусть то сцена объекта) расследование и даже гадание о том, что должно быть отвергнуто и уничтожено внутри. Ребенок пережил жестокий опыт своей зависимости от перемен настроения матери. Отныне он посвятит свои усилия угадыванию или предвосхищению.
Скомпрометированное единство Я, отныне дырявого, реализуется либо в плане фантазии, открывая путь художественному творчеству, либо в плане познания, [служа] источником интеллектуального богатства. Ясно, что мы имеем дело с попытками совладания с травматической ситуацией. Но это совладание обречено на неудачу. Не то что бы оно потерпело неудачу там, куда оно перенесло театр [военных] действий. [Хотя] такие преждевременные идеализированные сублимации исходят из незрелых и, несомненно, [слишком] торопливых психических образований, я не вижу никакого резона, если не впадать в нормативную идеологию, оспаривать их подлинность [как сублимаций]. Их неудача - в другом. Эти сублимации вскроют свою неспособность играть уравновешивающую роль в психической экономии, поскольку в одном пункте субъект остается особенно уязвим - в том, что касается его любовной жизни. В этой области [любая] рана разбудит [такую] психическую боль, что нам останется [только] наблюдать возрождение мертвой матери, которая, возвращаясь в ходе кризиса на авансцену, разрушит все сублимационные достижения субъекта, которые, впрочем, не утрачиваются [насовсем], но [лишь] временно блокируются. То любовь [вдруг] снова оживит развитие сублимированных достижений, то [сами] эти последние [сублимации] попытаются разблокировать любовь. На мгновение они [любовь и сублимация] могут объединять свои усилия, но вскоре деструктивности превысит возможности субъекта, который [субъект] не располагает необходимыми инвестициями, [ни] для поддержания длительных объектных отношений, [ни] для постепенного нарастания глубокой личной вовлеченности, требующей заботы о другом. Так [всякая] Попытка [влюбиться] оборачивается [лишь] неизбежным разочарованием либо объекта, либо [собственного] Я, возвращая [субъекта] к знакомому чувству неудачи и бессилия. У пациента появляется чувство, что над ним тяготеет проклятье, проклятье мертвой матери, которая никак не умрет и держит его в плену. Боль, это нарциссическое чувство, проступает наружу. Она [боль] является страданием, постоянно причиняемым краями [нарциссической] раны, окрашивающим все инвестиции, сдерживающим проявления [и] ненависти, [и] эротического возбуждения, и потери груди. В психической боли [так же] невозможно ненавидеть, как [и] любить, невозможно наслаждаться, даже мазохистски, невозможно думать. Существует только чувство неволи, которое отнимает Я у себя самого и отчуждает его [Я] в непредставимом образе [мертвой матери].
Маршрут субъекта напоминает погоню за неинтроецируемым объектом, без возможности от него отказаться или его потерять, тем более, без возможности принять его интроекцию в Я, инвестированное мертвой матерью. В общем, объекты [данного] субъекта всегда остаются на грани Я - и не совсем внутри, и не вполне снаружи. И не случайно, ибо место - в центре - занято мертвой матерью.
Долгое время психоанализ этих субъектов проводился путем исследования классических конфликтов: Эдипов комплекс, прегенитальные фиксации, анальная и оральная. Вытеснение, затрагивающее инфантильную сексуальность [или] агрессивность, истолковывалось безустанно. Прогресс, несомненно, замечался. Но для психоаналитика оный [прогресс] был не слишком убедителен, даже если анализант, со своей стороны, пытался утешить себя, подчеркивая те аспекты, которыми он мог бы быть доволен.
На самом деле, вся эта психоаналитическая работа остается поводом к эффектному краху, где все [вдруг] предстает как в первый день, вплоть до того, что [однажды] анализант констатирует, что больше не может продолжать себя обманывать, и чувствует себя вынужденным заявить о несостоятельности [именно] объекта переноса - психоаналитика, несмотря на [все] извивы отношений с объектами латеральных переносов, которые [тоже] помогали ему избегать затрагивания центрального ядра конфликта.